












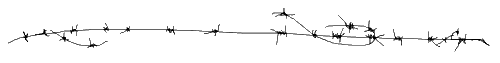
вх 1989-342
Уважаемый Владимир Григорьевич,
В посёлок Ермаково Игарского района (стройка 503) наша семья из 6-ти человек
переехала из Туруханска летом 1948 года. Посёлок строился на месте бывшего
рыбацкого посёлка (станка). Было несколько старых избушек и маленькая 4-х
классная школа. Всё (в том числе и пристройку к школе) строили заключённые. Их
кругом было больше, чем вольнонаёмных. Первый год почти не было деревянных,
брусовых домов, строили большие палатии (80 м х 10 м) и меньшего размера, внутри
их обшивали кошмой и фанерой, снаружи – дёрном. Семейные жили в такой палатке,
разгороженной на комнаты. Отопление - железные печки. Строили дома, дороги
заключённые, в школе, магазинах, учреждениях техничками, грузчиками работали
тоже заключенные. Водители автобусов, автомобилей – тоже ЗЭКа. У меня сестра
работала бухгалтером на участке в 3-х км от Ермакова, никаких рейсовых автобусов
не было, мы часто ездили к сестре на попутных машинах, шоферы охотно нас
подвозили, просили за проезд только папиросы. Не помню ни одного случая, чтобы
они кого-то обидели или не подвезли. К нам домой делать ремонт приходили
расконвоированные женщины. Мама всегда с ними подолгу беседовала, кормила их.
Помню тётю Дусю из Ейска, она до войны работала механиком в колхозе. Когда
подходили немцы, колхозники трактора и др. технику закопали в ямы. Во время
оккупации кто-то немцам указал, где закопана техника. После войны тётю Дусю
осудили на 10 лет и вот она работала без конвоя в школе уборщицей. На ночь они
(технические работники) уходили в зону. Лагеря (у нас тогда их называли «зоны»)
располагались вокруг посёлка. К новому учебному году 49-50-му нам построили
двухэтажную просторную школу с широкими коридорами, прекрасным спортзалом. В
школе работали всякие кружки танцевальный, хоровой, драматический. И не по
одному, а отдельно для младших и страших школьников. Все руководители кружков
были заключенные, также музыканты, баянисты, аккордианисты, художники (декортары).
Их приводили в школу на репетиции под конвоем, охранник с винтовкой сидел в
коридоре, пока мы занимались. Я занималась четыре года в танцевальном кружке.
Руководитель был артист Большого театра Борис Ефимович Ефимов. Сам танцевал
прекрасно и нас заставлял до пота. Концерты мы давали не только для школьников и
родителей, но и для всех жителей посёлка в клубе. Кроме школьной
самодеятельности там постоянно силами заключенных артичтов ставились прекрасные
спектакли. До сих пор помню «Раскинулось море широко» А. Кона. Как он был
оформлен, какие декорации, почти натуральное соре и катер, с которого прыгала
разведчица в воду! (брызги!) Всё это было сделано руками и силами заключённых.
Говорили, что среди них были знаменитые и заслуженные режисёр – Морозов, из
Ленинграда, не помню, был ли он ссыльным или вольнонаёмным. Они с женой
снимались в фильме «Морской охотник»? (44 или 45 г).
Мне пришлось однажды ходить в зону, меня оправили за отцом-зэком одной 3-х
летней девочки Нины, которая очень болела. Его привели под конвоем и через час
отвели обратно. Теперь его нет в живых, а его жена и дочь живут в Красноярске.
Самым главным учреждением в посёлке, которому, мне кажется, все подчинялись и
все боялись, был «Наштодом» - он занимал большой двухэтажный дом. Даже школьники
пугали друг друга и учителя школьников – политотделом. В комсомол детей бывших
заключенных, ссыльных не принимали, хотя это были лучшие ученики – гордость
школы. Была у нас учительница географии Смирнова Мария Александровна (она сейчас
живет в Омске), у неё муж после 10 лет лагеря находился в ссылке там. Так вот в
1950 году ей не разрешил политотдел работать в школе, т.к. муж был
неблагонадежным. Переживали очень мы – её ученики и она сама нас очень любила.
После 53-го года она до пенсии работала в Салехарде в школе. Каждое лето
школьников возили в пригород Красноярска в пионерские лагеря. Пароходы шли мимо
Курейки, где был построен мраморный павильон, внутри его был домик - музей
Сталина, стояли витрины с экспонатами под стеклом, павильон был из стекла и
мрамора, впервые там было для нас новым неоновое? Освещение (это же 52-51 г.г.)
Там проводили для нас экскурсию, на берегу стояла огромная фигура Сталина. Зимой
связь с Ермаково была только самолётами. По-моему раз в неделю прилетал самолет
из Красноярска или Москвы. Аэродром был на другом берегу Енисея. Заключённые
работали на строительстве и зимой почти привычной была картина, когда мы по пути
в школу видели группу заключённых, греющихся у костра. Одеты они были в чёрные
тологрейки и шапки-ушанки, валенки. Охранники в полушубках и тулупах. В 1953
году, после смерти Сталина, с началом навигации, все стали разъезжаться из
Ермаково, школа закрылась и отец мой перевёз нас в Игарку. Там уже не было
заключенных, а было много ссыльных литовцев, они работали на лесокомбинате.
В 1989 году мне попалась на глаза книга «Реквием» - стихи репрессированного поэта, я чувствовала, что должно же быть в ней что-то об Ермаково, в правда - там были стихи С. Ломикадзе, к сожалению, книгу мне не удалось приобрести, а стихи я переписала. Вот они.
Из книги «Реквием», Москва 1989 г.
Серго Ламикадзе
Иду Москвою новой
В бетоне и стекле
Посёлок Ермаково
Забытый на земле.
Сосновый и еловый
Плавёт издалека
Посёлок Ермаково
ЗЭКа, ЗЭКа, ЗЭКа.
Дневального убили
До воли дня за два
Ту вышку распилили
Кому-то на дрова
Ту проволку смотали
Свалили за холмом
куда товарищ Сталин
Сдавать Металлолом?
Грузинское растенье,
Железная лоза...
Развеяло метелью
Конвойных голоса.
Развяло, размыло,
По свету разнесло.
Бараки запуржило
И трассу занесло.
Есть продолжение стиха, но в письме его нет
Полярными ночами
Прошла судьба зенит.
Овчарки одичали,
И рельса не звенит.





