












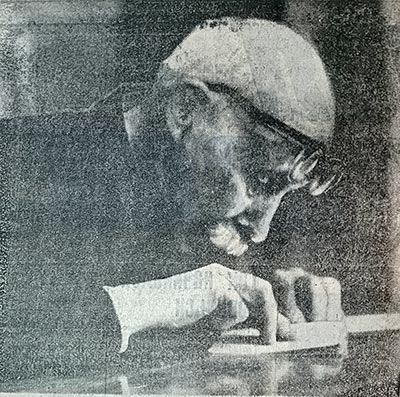 Урванцев
учит смелости и осторожности, продуманному риску, великому терпению,
основательности и мотивированности действий в постоянно меняющейся, не
поддающейся прогнозу обстановке, вниманию к ближнему, дружелюбию и
трудолюбию. Учит любить Север, по крохам собирать знания о нем, дорожить
временем, не теряться в сложной ситуации, не «зарываться» при видимой
легкости достижений, не опускать руки при неудачах, анализировать
их причины. Урванцев
учит смелости и осторожности, продуманному риску, великому терпению,
основательности и мотивированности действий в постоянно меняющейся, не
поддающейся прогнозу обстановке, вниманию к ближнему, дружелюбию и
трудолюбию. Учит любить Север, по крохам собирать знания о нем, дорожить
временем, не теряться в сложной ситуации, не «зарываться» при видимой
легкости достижений, не опускать руки при неудачах, анализировать
их причины. |
1803 год. 17 (20) января в г. Лукоянове Нижегородской губернии в семье Урванцевых родился сын.
1903 — поступил в Нижегородское реальное училище.
1911 — закончил училище, поступил в Томский технологический институт.'
1910 — покончил горное отделение Томского технологического института.
1910 — сотрудник Сибирского отдела Геологического . комитета. Командировал в низовья реки Енисей для изучения угленосных отложений (первое посещение района).
J920—1922 — продолжал разведку Норильского каменноугольного месторождения. Первая зимовка в Норильске (1921 — 1922 гг.).
1922, лето — лодочный маршрут по неизученной реке Пясине. Найдена почта Амундсена.. За путешествие награжден медалью им. Пржевальского, за находку почты — именными часами от норвежского правительства.
1923—1924 вторая полярная зимовка,; горно-разведочные и горные работы на Норильском месторождении, 1925—-1926 .. третья полярная зимовка в Норильске в составе экспедиции (заместитель начальника) под руководством .П. С. Аллилуева.
1928 — руководство геолого-поисковыми и разведочными «работами на открытом в 1$26 г. месторождении ; «Норильск-2». Геолого-тюисковый маршрут по неизученной реке Хантайке.
1929 —.Исследовательский маршрут по севёро-западной части Таймырского полуострова после передачи Норильского платинового месторождения в эксплуатацию «Союззолоту». За зиму и лето прошел на лошадях; оленях и моторной шлейке 10 тысяч километров.
1930—1932'— экспедиция на Северную Землю. Научный' руководитель. Кроме геологии,, вёл астрономические и магнитные наблюдения, топографическую съемку и гидрологию. Награжден орденом' Ленина:
1933—1934 — руководство гёолого-разведочными ра ботами на северном Таймыре. Вынужденная зимовка у островов «Комсомольской правды». Обошел на полугусеничных автомашинах северную часть полуострова.
1934 — главный консультант Горно-геологического управления «Главсевморпути». Премирован легковой автомашиной за внедрение автотранспорта в Арктике.'
1935, 11 июня —.без защиты диссертаций присуждена степень доктора геологических наук. Заместитель директора Арктического .института.
1938, 11 сентября — арестован в "Ленинграде,.
1939, 11 ноября —осужден военным трибуналом Ленинградского военнооб округа на 10; лет исправительно-трудовых лагерей по ст. 58 пп. 7 и 11 (вредительство и соучастие в контрреволюционной организаций).
1940, 22 февраля — дело пересмотрено (по жалобе Генеральному прокурору СССР), приговор отменен, дело прекращено за отсутствием состава преступления. В марте — возвращение из лагеря.
1940, 11 сентября — очередной арест. 30 декабря — приговором Особого совещания НКВД'СССР осужден на 8 лет исправительно-трудовых лагерей (с зачетом).
1941, январь — направлен нз работу в Особое техническое бюро в Ленинграде конструктором;
1941,'с ноября — лаборант, затем технический руководитель на Актюбинском комбинате ферросплавов. (Завод бетонных изделий).
1942 — начальник геологического бюро и главный геолог Ленских рудников хромистого железняка Актюбинском комбината НКВД.
По распоряжению А. П. Завенягина направлен на Норилькомбинат руководителем геолого-поисковых работ.
1943, лето — геологический маршрут по реке Пясине и ее притокам.
1944, лето — геологическая съемка района архипелага Минина (на моторной лодке).
1945, март —; освобожден из лагеря, назначен старшим геологом Геологического управления Норильского комбината.
1951, январь — главный редактор монографии по научно-исследовательским и
тематическим работам Геологического управления,
1952—1*956 — работы по составлению геологической нарты Норильского района.
С 1957 — в Научно-исследовательском институте геологин Арктики (ВНИИ океангеологии) в Ленинграде.
1958 —награжден Большой золотой медалью Географического общества.
1961 — утвержден в ученом звании профессора по специальности «геология».
1963 — награжден орденом Ленина.
1974 — присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.
1975 — «Почетней гражданин Норильска». 1983 — награжден орденом Трудового Красного Знамени.
1985, 20 февраля — кончина Н. Н. Урванцева.
Еще немного — и поверишь в провидение, в силы, определяющие людские судьбы.
Ровно за десять лет до его рождения Ф. Шмидт, А. Карпинский, И. Мушкетов и еще трое коллег составили общий план геологического исследования России.
С Фридрихом Богдановичем Урванцеву встретиться не довелось, тот прожил после 1883 года только четверть века, но с горой Шмидта — в первой же экспедиции.
Иван Васильевич ушел еще раньше, но оставил учеников, и среди них В. А. Обручева, который обратит студента-механика в геологическую веру, и собственного сына, Д. И.И Мушкетова, в свое время тот станет директором Геологического комитета, сотрудником и начальником Урванцева.
С Александром Петровичем Карпинским, основателем рус¬ской научной геологической школы, первым директором Геолкома и первым выборным президентом Российской (потом СССР) академии наук, Урванцеву предстоит обсуждать — в 1935 году — будущее Норильска.
А теперь о том, что за год был 1893-й, когда еще не разорившийся купец Урванцев и вся семья его (в нижегородской глубинке, по Теше и Оке — километров двести от Волги) радуются рождению наследника, Политические события мы тут опускаем, как и, допустим, литературные, хотя граф Л. И. Толстой засел за роман «Воскресенье» (впрочем, отвлекся и выступает с воззваниями о помощи голодающим — очень голодный год).
Именно тогда барону Э. В. Толлю удалось посетить Новосибирские острова и навсегда «заболеть» Землей Санникова. Гидрографическая экспедиция А. И. Вилькицкого приобрела в селе Дудинском у местного предпринимателя А. К. Сотникова несколько тысяч пудов угля, добытого на Норильске (топливо оказалось отменного качества, отзыв — после испытания на судах — восторженный).
В ответ на ходатайство управляющего Морским министерством найдены средства на продолжение описи северных берегов Азии. Начинать решено с исследования судоходства по р. Енисею. С этой целью приобретены за границей пароходы, двухвинтовой и колесный, а также парусная баржа. Все три судна поименованы «лейтенантами»: «Овцын», «Малыгин» и «Скуратов». Под общим начальством лейтенанта Л. Ф. Добротворского они прошли Югорским Шаром в Карское море и в назначенный срок благополучно доставили железнодорожные грузы к устью Енисея. Сей факт горячо приветствовал барон Норденшельд. Он советовал в обязательном порядке, кроме гидрографических исследований, продолжить телеграфную линию от Архангельска до самых устьев Енисея. Барон выразил восторженную веру в блестящую будущность Сибири с проведением Сибирской железной дороги.
В то же лето Э. В. Толль, среди прочего, устраивал продовольственное депо для Фритьофа Нансена и прошел из дельты Лены до... Дудинки! Невероятно, однако факт — через Хатангу, добрых две тысячи километров.
А осенью исполнилась мечта норвежца: его судно было зажато льдами, и начался знаменитый дрейф его «Фрама» с чисто научными целями.
...Е'ели все же верить в предназначение, то .Урванцев родился под звездой по имени «Фрам». Что означает: «Вперед!».
Когда мысленно представляешь себе Таймыр или разглядываешь его карту; Северная Земля обычно остается за краем зрения. А ведь напрасно. По геологической истории и даже административно — та же самая земля.
Правда, /у\ы часто вспоминаем (в связи со стадом овцебыков, разросшимся за последние 20 лет), что - некогда эти животные здесь уже паслись, как и мамонты. Но дальше, на север, мысль почему- то не стремится. Пролив Вилькицкого мешает?
Северная часть материка, еще не названного никем, простиралась куда ближе к полюсу. «Доисторические» существа гуляли далеко за мысом Челюскина, мыса — не было, других мысов — тоже (по обе стороны), ни шхер Минина, ничего... Все это образовалось, когда под тяжестью льда стала опускаться в в океан земля, которую сегодня мы зовем родной.
В конкурсе на звание самых забытых богом островов победили бы — да, те самые, за Вилькицким' проливом. Судите сами... Норденшельд уже прошел в Тихий океан вдоль края Канады). Нансен побывал, дрейфуя, в глубине Центральной Арктики, Кук и Пири покорили полюс (1908—1909), тот же Амундсен и Скоттг — противоположный (1911—1912). Всё открыто, нанесено на карту... Кроме Нее.
Правда, разговоры были. Норденшельд и Толль не исключали существование суши к северу от Таймыра, Датчанин Ховгард даже отправился ее искать (1883), но не проник и в Карское море. Прошло еще 30 лет, прежде чем Случай не привел гидрографов Бориса Андреевича Вилькицкого к неизвестному островку, а назавтра — к неведомой земле.
Что было! «Последнее географическое открытие □ ряду великих!» «Новые земли...».
А на картах появились только пунктирные линии, да и то лишь с востока и юга: война помешала, потом революция — не до того, гражданская война.
— Ну и противная земелька, — скажет много позже В. Ю. Визо, ступив на вычисленный им остров.
Это другой случай. Уже тогда, в 1913-м, поняли, речь идет не о земельке — об огромном острове или архипелаге, хоть и «противном» по условиям причаливания, нетающим льдам и постоянным (по осени) туманам. Тем не менее великое открытие должно было иметь великое имя. Долго не думали: Земля императора Николая II.
Подданному царя, которому предстоит начертить первую карту этой земли, последнюю карту эпохи великих географических открытий, было 20 лет. Он учился о Сибири, о Томске, на горного инженера. Но бредил Арктикой.
(Я надеюсь, вы оправдаете меня за эпический настрой, за то, что начал издалека: дата диктует. Количество совпадений уже тревожит, но не замалчивать же их! Да и на их природа: на Севере заметен каждый, тем более — каждый велики).
— Русские сделали большое открытие, обнаружив новые земли... Но это полдела. Оно будет окончено, когда те же люди.. их и исследуют.
Так сказал не кто иной, как О. Свердруп, капитан «Фрама». А знаете где был Ф. Нансен 3 сентября 1913 г., когда открывали Землю? Сидел на мели в двадцати милях от Диксона. Когда же «Коррект» освободился, пятясь, он. бросил якорь между островом и материком. Скоро 70 лет путешествию Нансена в страну будущего за которым, затаив противоположный (1911—1912). дыхание, следили все читающие сибиряки, но Урванцев — особенно: это был его герой с того дня, когда он впервые открыл книжку о дрейфе «Фрама».
Полдела оставалось несделанным. В 1926 году Земля еще носила имя убиенного царя. Кто-то подсказал, переименовали, не слишком задумываясь. Еще лет десять, и она могла стать Землей Сталииа — почти неотвратимо.
Но не будем торопиться. В 1926-м Урванцев и свояк Сталина П. С. Аллилуев были о Норильске.., Поразительно: первым кандидатом в руководители норильской экспедиции считался еще один сталинский родственник — Роденс, тоже помощник Ф. Э. Дзержинского и тоже очень порядочный человек.
Из всех названных выжил только Урванцев.
 ..Перечитываю
все, что написал к 80-, 85-летию, к 90-, 95-летию Николая Николаевича (три
четверти он читал уже не совсем своими глазами и даже не через очки, без которых
не обходился с детства, а подняв окуляры на лоб и вооружившись лупой). Теперь
перечитываю не «его глазами, а собственными, но как бы со, стороны и с высоты
десятилетий. Но отказываюсь от этих очерков, но кое-что раздражает: здесь —
ненужная «красивость», там — нежелание копнуть полгубже и даже наивность.
Но, если не ошибаюсь, и десять, м даже двадцать лет назад есть ощущение масштаба
этой личности. Впрочем, не понимать, кто перед вами, и полвека назад мог только
слепоглухой,- притом заранее настроенный на предубежденность.
..Перечитываю
все, что написал к 80-, 85-летию, к 90-, 95-летию Николая Николаевича (три
четверти он читал уже не совсем своими глазами и даже не через очки, без которых
не обходился с детства, а подняв окуляры на лоб и вооружившись лупой). Теперь
перечитываю не «его глазами, а собственными, но как бы со, стороны и с высоты
десятилетий. Но отказываюсь от этих очерков, но кое-что раздражает: здесь —
ненужная «красивость», там — нежелание копнуть полгубже и даже наивность.
Но, если не ошибаюсь, и десять, м даже двадцать лет назад есть ощущение масштаба
этой личности. Впрочем, не понимать, кто перед вами, и полвека назад мог только
слепоглухой,- притом заранее настроенный на предубежденность.
Самое удивительное — или а порядке вещей? — что таких среди урванцевского окружения, даже близкого, всегда хватало.. «Большое видится на расстоянии»?
Впрочем, «оппонентов» у Н. Н, было не так уж много. (Следователи и охранники не в счет). Но среди них геологи, инженеры; журналисты, краеведы — писали в инстанции и лично «недругу № 1» », грозили и грезили, подписывали и обходились без своего имени, собирая чужие. Отравляли жизнь. Иногда — умело. ,
Его обвиняли: в купеческом происхождении; в белогвардейском (колчаковском) прошлом; в присвоении чужих открытий; в умалении чужих достижений; в использований чужих мыслей; в ошибках в освещении истории; в ошибках геологических; в умышленном неоткрытии Талнаха; в топтании «на пятачке» в Норильске; в шпионаже в пользу Японии; в плохой подготовке навигации 1937 года по Севморпути...
Могу легко выйти за пределы дюжины, коль приступил к перечислению обвинений из области юриспруденции по А. Я. Вышинскому. Серьезность их неравноценна. Некоторые не заслуживают и слова а ответ. Одни продиктованы глупостью и подлостью, другие обстоятельствами жизни, условиями «строительства социализма в отдельно взятой стране», профессиональной завистью, забывчивостью и профубожестоом... Да просто неумением подняться над фактами и взглянуть на них без предубежденности.
А почему бы ие признать чью-то правоту в каких-то частностях иди доже не совсем частностях! Николай Николаевич не тот человек, которого надо возводить в сен святых. Его житие... во многом определяло сознание, в основе —' безусловно, христианское (с детства), при этом — материалистическое,. максимально (насколько было возможным) аполитичное...
Написал это слово и остановился, не зная, позволить ли себе идти дальше.' А как же тогда насчет свободы слова? Я же никого не агитирую,{высказываю собственное мнение и могу ошибаться. Тем более .что познакомился с Н. Н., когда ему было уже 75, в старый, говорят, что малый...
Старым он ие был и я 92. Физическая немощь поразила его вмиг и без предупреждения. Если бы ие упал, поскользнувшись на городском тротуаре, если бы не сотрясение мозга — он мог прожить и век, с ясным умом и в пределах допустимого я человеческом общежитии. (Я как-то писал, что он себе назначал не земле 93-летиий .срок — «как Обручев и другие из нашего круге»).
Но «малым» .он был, похоже, всю свою жизнь. Ребенком, которого опекала бездетная Елизавета Ивановна. При всей его потрясающей практичности в делах экспедиционных, производственных, даже издательских.
Политикой он не занимался, а если и приходилось, это было яяио не его. Когда он признался, что некогда симпатизировал анархистам, нетрудно было предположить, что увлечение относилось к очень яркому человеку, князю Петру Кропоткину, большому геологу, исследователю Арктики, предсказавшему существование ЗФИ, и теоретику анархизма. Так вот. Врать Урванцеву приходилось, как всем. Но мало кто это делал настолько неумело: «экспедицию 1920 года отправил на Таймыр В. И. Ленина. Какой Ленин! В двадцатом! Больше нечего было делать...
Но — главное — на что мог рассчитывать Урванцев? Как долго поддерживать эту версию?
Вот что ответил Н. Н. при первой же нашей встрече. (я ее откладывал, как теперь понимаю, напрасно):
— Я думал, мне сказали, так нужно...
Не торопитесь. Это говорил не геолог, а выходец из купеческой семьи, однажды в молодости выполнивший социальный заказ - колчаковского правительства (в лице Геолкома, по-нашему — Мингео). С . тем же энтузиазмом он отправился бы в Норильск по просьбе (поручению) советского правительства. Hp Н. Н. жил- в Томске и работал в Сибгеолкоме, а не в поле деятельности Петроградского геолкома.
Между прочим,, хорошо когда-то написал давний защитник Урванцева Никита Болотников, которому не раз доставалось от Н. Н по службе, на зимовке, но честный и объективный человек, толковый исследователь, биограф Никифора Бегичева:
— И в Сибири, и в Крыму, гд проходило моё детство, и в других местах России если и менялись власти, то основные гражданские институты оставались неименными, продолжали функционировать, хотя и с перебоями, даже не изменяя названий, школы. библиотеки, зрелищные предприятия, некоторые научные учреждения, фабрики действовали... Никого потом не называли, если они даже служили во время белых, ни деникинцами, ни врангелевцами...
Болотников открыл глаза «зашоренным» (факт, что в 1918 году Сибирское белогвардейское правительство продавало хлеб представителям большевистского' Архангельска), правда, без особого успеха. А ведь с единственной целью: уберечь Н. Н. Урванцева от дрязг, грязных и недостойных деяний — перед его 80-летием.
Прошло еще 20 лет, пересуды смолкли, (по, увы естественной причине). Чувствую личную обязанность при всех вновь открывшихся материалах и обстоятельств продолжать благородную «миссию Болотникова», но, понятно, не сегодня. Сегодня — праздник прежде всего на Улице Его Имени,; лотом — на всех норильских, дудинских, кайерканских, снежно- и светлогорских улицах, включая его имени; затем — на оставшихся в живых полярных станциях Арктики и Антарктики, в акваториях северных портов, в метеорологических обсерваториях, в геологоразведочных, тематических и других экспедициях и в райцентрах и посёлках Севера, в санно-тракторных походах и в каждой кабине движущегося в снегах всему этому приложил свою мысль Урванцев.
После этого списка последним — нельзя не вспомнить — городок на речке Тёше, давший жизнь ему и выдавший путёвку мр институтский и научный — его ворота в Арктику; и, наконец, Питер, который был домом Урванцевых, когда им было по 30, куда он возвращался из путешествий и "отсидок". Питер - любимый город (после Норильска). Питер - центр арктической и антарктической науки.
Почему в предыдущем списке Север впереди — объяснять не надо. Разве что добавлю: нет полной <...> сти в нижегородской ,...> истории Томска Урванцев человек заметный, но двадцатый или тридцатый: в истории С.-Петербурга — один из первой тысячи.
Для Норильска он — Первый. А для России и мира? Как увековечена его память? Что носит имя Урванцева, человека, который посвятил полярным областям две трети века — и своего двадцатого? Исследователь №1, можно сказать, <...>та арктической карты стороной в полторы тысячи километров — от южного <...>Хантайки до мыса А<..>ского и от нижнего <...> до устья Лены.
Скала в горах Мю<...>иан Земли Королевы <...>. Вы представляете себе подарок (правда, ещё и Николаю Николаевичу <...>та советско арктической экспедицией в 1962 году. Королеве — Земля <...>, а Урванцеву - ск<...>бы она была скалистая <...> как бы ни сверкала на рассвете, ни погружалась в пурпур на закате — <...>.
Бухточка на острове <...> в Карском море <...> спасибо В.А.Троицкому, увидел на доске триангуляционного знака урванцесвский автограф, нацарапанный гвоздем — назвал и <...>(Автограф, между прочим,1946 года, почти норильлаговский).
Минерал Урванцевит — это красиво. Но разве висмуту, свинцу и палладию посвя <...> себя Н.Н.?

Вовсе уж несерьёзно, да и встречается с ним один из миллиона, название «вида из ветви бесчелюстных в нижнем <...>зоне северо-запада Сибирской платформы»...
Получается, главное, чего удостоен Урванцев — это именная Набережная в Норильске. Вот на какой улице должен быть главный праздник.
10 лет назад я, один из подданных страны Урванцева, воспринимал столь скромный список безо всяких комплексов, как данность. Ну, ещё добавлял к нему домик на Нулевом и дом на острове Среднем, приют первых североземельцев, построенный по его чертежам и перевезённый туда с Домашнего.
Теперь перевезён и с Нулевого. Может быть, этот грустный рейс натолкнул на скорбные размышления? Или позорная эпопея с прахом?
Нет, пожалуй, просто время, его течение. Мы перестали воспринимать всё ва свете как должное, определенное свыше. Стали испытывать сомнения — в истинности, в искренности, в справедливости сущего. А с этой позиции взгляни, и сразу бросится в глаза: как же так? Человек открыл, промерил, определил местонахождение, подарил человечеству целый архипелаг — и не заслужил маленького островка? Кстати, примерно так подсказали, ставил вопрос в «Точке возврата»Владимир Данин, теперь уже покойный).
Ну ладно, четыре — крупных, бог с ними. Около Большевика их немного, неказистые и все меньше километра в поперечнике. Но самый-то северный, Комсомолец, имеет в своей свите сколько угодно и скалистых, в проливе Красной Армии, и «рыхловатых»...Неужели кому-то было жалко? Или наверху не придали значения? Как же — орден-то Ленина № 460, выдали, похоже, были очень довольны — Калинин, Микоян, Будённый и другие «мысы»... Эту сторону деятельности явно брал на себя Г.А. Ушаков: «Так надо...». Урванцев, естественно, голоса не подавал. Вот в защиту прав Петра Кропоткина — да, выступил: его имя должна носить ЗФИ, император Франц-Иосиф никакого отношения к Земле не имел. (Как видим, равнодушным к наименованиям географических объектов Урванцева не назовёшь).
Не подавал голоса он часто и подолгу. Может быть, сочиняю (никогда не спрашивал Н. Н. об этом), но, думаю, одна из самых больших драм в его жизни — трагедии трагедиями — связана с книгой соратника «по нехоженной земле» (это и название книги) Г.ПА. Ушакова. Предисловие академика В.А. Обручева. Издательство Главсевморпути. Москва. 1951. Ленинград. (переписал титульный лист).
Четыреста страниц большого формата. О зимовках, нанесении на карту первых исследованиях Северной Земли. 1930-1932. Советская полярная экспедиция, в составе которой...
Трое. Ушаков, Журавлев, Ходов.
Нет никакого Урванцева. «И не было!» — как написал, возмутившийся корреспонденцией в «Известиях» о норильчанах, работающих над составлением геологической карты архипелага. (Естественно, были названы и первопроходцы).
Читатель-то был ни при чём: он ссылался на доктора геологических наук Ушакова и академика Обручева. Единственное, в чём его можно упрекнуть — в недостаточном внимании. Но ведь академик не предупредил, что читать-то нужно между строк! «Двое из нас уже достаточно знали полярные условия и т.д. » — можно было подумать: Ушаков и Журавлёв. «Мы расшифровали геологию массива» — с каюром или радистом? Или Г.А. просто не хотел «якать»? «Мы установили, что это... обширная территория, достойная называться Землей... Мы исследовали её простирание к северу, открыли западные берега с их мысами и заливами, все проливы, ряд мелких островов и проникли во внутренние области земли. Мы доказали, что... расчленена на четыре крупных...» (острова. Это за первый год. Молодец, Георгий Алексеевич!).
И вдруг... какой-то астроном. Для закрепления топографической съемки он должен («мы должны») через каждые 70—120 км определять опорные точки в виде астрономических пунктов. Проще: определять «точку нашего местонахождения на планете» От качества этих наблюдений зависит, годна будет карта Земли или никому не нужна...
И тут не может не вспомниться..,, доктор с предыдущей страницы. «Его обязанности... охотно выполнял один из нас... Основным принципом лечения была строгая, почти гомеопатическая дозировка пирамидона и уротропина».
Нет что-то тут но то. Дело не только в скромности автора и коллективизме как законе общества. Кто-то, минимум один, прячется между строк, и никакая 'конспирация не поможет:
— Так выглядела северная оконечность Северной Земли в день первого достижения ее людьми. Этими людьми были мы — посланники советского народа. Только Вася Ходов не присутствовал... (Еще одна попытка быть честным. — А, Л. — Ибо после этого замечания несколько строк звучат прямой подсказкой]... Наш лагерь, черневший на девственном белом поле льдов, несмотря на суровость окружающего/ пейзажа, был в этот день оживленнее, чем обычно. Мы праздновали наше достижение крайней точки Северной Земли.
Для последующей «сцены бани» тоже явно не хватает «третьего».
Замечательная книжка. Лучше урванцевских (у которых, правда, свои плюсы), И нечего грешить на автора, на редактора (К. Я, Горбунов). Недогляда здесь нет. Наоборот, замысел, небезопасный для исполнителей. Оценить его могли, увы, не все читатели.
В это время «посланник советского народа» давно чувствовал себя почти вольным человеком: руководитель геологической службы комбината!
Пока кто-то не привез в Норильск эту книгу.
А кем был Н. Н. в северо-земельскрй экспедиции на самом деле? Во-первых, выясняется, научным руководителем. Во-вторых, безусловно героем, если принять во внимание, что выносил двойные трудности и, тройные психологические нагрузки из-за испорченного с детства зрения. (Очень не любил, кстати, когда об этом говорилось, не выносил и тени подозрения в (какой-либо слабости). Оценка Географического общества приведена рядом. Я же хочу предоставить слово радисту Ходову—самому объективному из четверки: не делил с .Урванцевым ни научную .славу, ни снайперскую, ни риск провалиться под лед.
— (Ушакову) нужны астроном, геолог, топограф и врач. Он ставит задачу подобрать одного человеку который бы владел всеми этими специальностями, причем умел бы еще и обслуживать самого себя, то есть быть каюром в переходе, поваром на привале и прачкой на базе... Н. Н. проходил... специальную медицинскую подготовку» в которую входила и практика оказания экстренной хирургической помощи... Н. Н. был у нас теоретиком хлебопечения... и страстно пытался посвятить меня во все тайны кембрия и девона... обладал энциклопедическими знаниями и мог давать по любому вопросу... выполнял астрономические и магнитные наблюдения и другие работы, не имеющие прямого отношения к геологии. Работоспособность и скрупулезность Н. Н. были потрясающими. Так, определяя астрономические координаты нашей базы, он для большей точности вычислил широту из 50, а долготу из 62 наблюдений! Он был педантичен во всем. На рабочих столах стояли теодолиты и хронометры, которые выверял и готовил по полевому сезону Урванцев, На обеденном столе заняла постоянное место швейная машина... Н.Н, с аптекарской точностью развешивал и упаковывал суточные рационы путевого довольствия, заливал батареи для питания походного радиоприемника... Утром, умываясь, он обычно спрашивал: «Василий Васильевич, где мои очки!». Из-за близорукости ему было нелегко даже найти очки.
Прошу обратить внимание на форму обращения к 18- летнему радисту.
И на то, что еще древние греки пришли к формуле: «Поход есть жизнь».
А не «борьба», как стали переводить и во что уверовали.
Звездных часов в этой, жизни тысячи. И черных дней — тысячи (два ареста, два следствия, питерская тюрьма «Кресты»„ лагерь под Актюбинском, Норильлаг, не считая нескольких лет тяжелой болезни глаз на исходе жизни, переносимой даже не без юмора),
... Но известны в истории, и до урванцевской звездные биографии, а тем .более мученические, несравненна тяжелее. В чем же Урванцев совершенно i уникален: дожил : до осуществления почти невероятного, увидел плоды, полученные от брошенные им в почву семян. Не просто в почву — в скалу, вечномерзлый грунт.
Перечислю ставшее хрестоматийным, по крайней мере, в Норильске. Все началось с Нулевого пикета — вбитого в землю кола на будущей улице Горной, Вряд ли можно было предположить в 1919-м, что здесь, двадцать лет не пройдет, проложат улицу, пусть поселковую, а там, внизу у синего Озера, вытянутого в широтном направлении, когда-нибудь поднимется Набережная Урванцева.
Все началось с первой, второй, третьей, четвертой, пятой урванцевских экспедиций на юг Таймыра. С анализов рудных образцов в петроградских лабораториях. С инструкции заведующему разведкой Норильского угольного, медно- никелевого и графитового месторождения горному инженеру Урванцеву: . «Для осуществления предполагаемых работ, которые надлежит вести также в начале и в конце зимы, когда то позволят климатические условия, предлагается вам возвести необходимые жилые постройки...».
Первую жилую постройку возведут в 1921-м, она сохранится и войдет в историю как «домик Урванцева». Весною 1922-го ее окна видели первомайскую демонстрацию первых на этой земле зимовщиков. В следующую зиму руководитель зимовки забыл про полярный неуют: он полюбил, и оказалась эта любовь — до гроба. Несмотря на превратности- судьбы, наперекор ветрам эпохи союз Урванцевых продлится 62 года. Елизавета Ивановна не сумеет прожить без Николая Николаевича и пятидесяти дней...
Через 12 лет после, промеров Урванцевым и .Бегичевым фарватера Пясины по этой реке прошел первый караван судов с грузами «Норильстроя». Через 17 лет после определения координат Нулевого пикета ,к нему подошла узкоколейка от пристани Валек.
Через 20 лет .после первых лабораторных анализов норильчане получили чистый никель и чистую медь, построили первую улицу нового города.
Через 30 лет после свадьбы Урванцевых Норильск (увы, до тех пор «закрытый») с большим опозданием, Но официально назвали городом.
Через 35 лет после первого исследования Урванцевым и братьями Корешковыми берегов Хантайки начали строить у Большого порога ГЭС.
...Урванцевы дождались Большой руды Талнаха и геологического освоения — норильчанами! — Северной Земли, глубинной нефтеразведки под Хатангой и газовых дюкеров через Енисей, круглогодичной навигации в полярных морях и четвертьмиллионного жителя Большего Норильска. Больше полувеку Урванцевы посещали свой .домик на Нулевом, р последнее десятилетие— музей.
Считанных месяцев не дожили до 50-летия со дня начала строительства комбината ого ветераны — руководитель геологической службы (1945— 1956) и один из организаторов медицинской службы.
Они ушли от нас на десятом десятке лет: Николаи Николаевич — сразу после своего 92-летия, Елизавета Ивановна -— не дожив полугода до такой же даты.
Их последним желанием, их мечтой было, не расставаться и после смерти. И чтобы вечным приютом стала для них норильская земля.
6 июля 1985-го на Нулевом пикете при большом стечении народа состоялось захоронение .доставленных .из Ленинграда урн с прахом. Их поместили в одну нишу, которую прикрыла плита с удивительной надписью:
Н. Н. Урванцев (1893—1985)
Е. И. Урванцева (1893—1985)
ПЕРВЫЕ НОРИЛЬЧАНЕ
Чем пристальней вы всмотритесь в каждую из трех строк, тем ниже склонитесь перед их подвигом.
10 июля 1985 года «домик Урванцевых» стал частью мемориального «комплекса, который, Норильск открыл в честь первооткрывателей.
Еще никто не знал, что за время пришло. Что несут в себе новые слова. И что за многое будет стыдно, не исключая перенос избы в центр города — «так удобнее туристам».
...Если бы они не умерли тогда, им бы не удалось уйти в другой мир счастливыми. Они ушли вовремя, а день вступления Н. Н. Урванцева в новый век — не для наших сетований.
Человеком подвига. Для доказательств требуется одна строка. Допустим: «Исследователи прошли на собаках около 11 тысяч километров».
Не от Бреста до Владивостока, а по льдам Северной Земли.
Кстати, я привел не урванцевскую строчку — это заметно на расстоянии.
А вот его: «За пять маршрутов общим протяжением 3004,8 км (!) определено 17 астрономических пунктов, позволивших составить надежную топографическую и геологическую карты в масштабе 7,5 км=1 см». (Восклицательный знак мой и относится к десятым долям).
Он стремился к надежности и точности. При любых обстоятельствах. Ошибался не раз, но не в расчетах, а в умозаключениях.
Ошибаются все, кто на себя берет и много делает.
Подвигов за ним числится много.
Подвиг целеустремленности.
Подвиг трудолюбия.
Подвиг тщания и тщательности.
Подвиг предвидения.
Что же, не бывал слабым? Бывал. Слабым, потерянным, парализованным (обстоятельствами) А побежденным не был. Полуслепой с детства, воспитал себя победителем.
Что касается предвидения... Тут я имею в виду не интуицию (по крайней мере, геологическая ему иногда отказывала). Ои как никто был скрупулезен в подготовке проектов, чужой опыт (Пири, Шеклтона, поморов, волгарей — кого угодно) знал досконально. Предусмотрительность граничила с компьютерной запрограммированностью, избавляя от множества неприятностей... Только подумайте, посчитайте! Арктика не выпустила из своих объятий. «Жанетту» Де Лонга и «Челюскина», Толля и Седова, Русанова и Амудсена (Амудсен был близок к гибели щё на зимовке «Мод» близ Челюскина: побежал от медведицы, что делать нельзя — догонит)... Чудом избежали гибели Пайер и Нобиле. Да мало ли!
Урванцев никогда не был на волосок от смерти, не погибал...
А разве не подвиг — его долгожительство? Гены генами, конечно, с этим он пришел в мир, годом и двумя годами позже умерли его сестры — в Москве и Праге. Но я — о долгожительстве творческом, которое даётся не каждому.
Выписываю два десятка имен, так или иначе сравнимых с Урванцевским. Путешественники вообще-то живут долго (ещё М. Поло достиг 70). Но рядом с Урванцевым и Обручевым — никого, вне конкуренции. За ними — П. Семенов-Тян-Шанский и П. Кропоткин (кумир юности).
Тот. кто санкционировал арест Н. Н, тоже жил долго. В начале 1940-го стал дважды Героем. правда, не за то.
Но и за то.
А ведь помнил свой грех (безусловно, не единственный). Во всяком случае, никогда не сказал о Н. Н доброго слова. Не изменял принципам.
Все это грустная шутка Нет никаких оснований считать, что Урванцев не простил врага по-христиански, к тому же поняв...
В год 80-летия он напечатал работу о генетических особенностях формирования медно-никелевых месторождений Норильска как основе поисковых прогнозов. В 1980-м, в последней норильской командировке, высказался так: этот город, конечно, столица Таймырского края, и давно «пора уже всю эту территорию от Красноярского края отделить и превратить в самостоятельную единицу»ю (На 13 лет раньше заявил, чем окружной Совет депутатов!).
Мыслил. Жил. Вспоминал.
И нам завещал думать, помнить, действовать и жить.
Анатолий Львов.
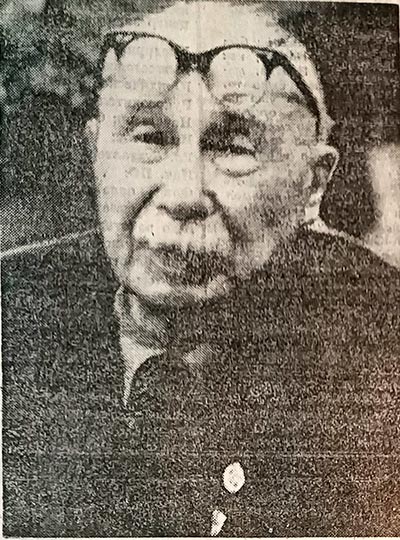 О
ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
О
ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ«...В заключение нельзя не указать на ту колоссальную роль, которую сыграет разработка Норильского месторождения и проведенная к нему железная дорога в оживлении до сих пор мертвого района... Наконец, спадет тяготеющее над краем проклятие смерти, положенное еще сотни лет тому назад тяжелой рукой воеводы князя Куракина».
И. УРВАНЦЕВ. Отчет...«Норильский каменноугольный район». Известия Сибирского Отделения Геологического Комитета, т. г. Томск. 1921.
«...По мере подъема благосостояния всей страны вообще, а Сибирского края в частности, Северный морской путь как естественная водная артерия в порты Европейской части СССР и Западной Европы приобретет громадное экономическое значение. Тогда Норильское месторождение станет тем ближайшим источником, откуда приходящие пароходы будут исполнять свои топливные запасы... Наличие в непосредственной близости к углю залежей медно-никелевых, с содержанием платиновой группы, руд делает месторождение еще более ценным... Атор не скрывает, что здесь на пути будут стоять препятствия, может быть, и немалые, но тот, кому придется их преодолевать, должен помнить, что побороть их — это значит вызвать к жизни огромный, доселе почти пустынный край...»
Н. УРВАНЦЕВ. Климат и условия . работы в районе Норильского каменноугольного и полиметаллического месторождения.
«Экспедиция 10 июля вышла из с. Дудинского в Норильские горы. Средства передвижения — 21 санки с грузами. По 4 оленя запряжены в санки, 33 оленя запасных, всего 117 - оленей и 7 лошадей...
Все члены экспедиции шли пешком. Состав экспедиции был таков: топографическая партия ~ четыре человека, горноразведочная — семь человек, геологов — два, хозяйственников — два, проводников и пастухов — семь человек...,
Каравану при передвижении по тундре пришлось встретить целый ряд затруднений за время переправ через быстрые и полноводные от таяния снегов реки. Однажды едва не произошла катастрофа. Самодельный плот, на котором находился один горнорабочий и санки с кузнечными принадлежностями, перевернулся на середине реки. И только спокойствие и умение хорошо плавать спасли -человека от верной гибели... Весь путь был совершен, в 10 дней, причем, на стоянки и дневки было потрачено в общей сложности до трёх дней, то есть за один переход «аргиш» делал 10—12 верст. Такое медленное продвижение станет понятным, доли вспомнить, что оленям приходится тащить за собой груз по топкой тундре, на санях; людям же идти пешком, утопая местами i в оттаявшей - глине».
И. УРВАНЦЕВ/ Отчет. («Горно-разведочное дело 'в Сибири».» 1921).
|«...мангазейцы плавили норильскую руду, конечно, карбонатную, а не
сульфидную. Карбонатные руды легкоплавки, легко заметны благодаря ярко-зеленому
или синему цвету. Ими пользовались еще люди бронзового века. Сульфидные руды на
поверхности переходят в бурые железняки, а потому плохо заметны, и в примитивных
печах плавке не поддаются.
УРВАНЦЕВ. 31.01.70».
|(М. И. Белов И др. МАНГАЗЕЯ. Л., 1980. Из акта экспертизы медной руды, обнаруженной в раскопках плавильных центров Мангазеи).
«Прослушал лекцию по физической геологии, которую читал ассистент К. А. Обручева' Михаил Антонович Усов. Он был совсем молодым, читал свой предмет с увлечением. Я стал интересоваться программой отделения и понял, что именно горное дело идеология есть мое призвание, позволяюшее изъездить всю Сибирь, ибо лее глухие места..
«Рассказы о Томске». (Новосибирск 1084, Перед зданием Томского технического института строит: памятник: «Исследователю недр Сибири академику Усову Михаилу Антоновчу, 1803—1939). — Ред.

Эту заметку о первой в моей жизни встрече с Н. Н. Урванцевым я пишу в той же самой комнате, где она произошла почти 30 лет назад.
Зимой 1963 года Николай Николаевич Урванцев приехал вместе с двумя своими сотрудниками — И. 11. Горяшовым и Г. И. Ковардиным в норильскую лабораторию обогащения, чтобы ознакомиться с результатами первых исследований то обогатимости керновых проб юго-западной части Талнахского месторождения (будущий рудник «Маяк»).
Мы. тогда еще молодые специалисты, смотрели и слушали Николая Николаевича, аатаив дыхание. Поражали его простота и доступность, феноменальная память на далекие события — времен первых его экспедиции по Таймыру.
С большим уважением говорил он про своего спутника по Пясинекой экспедиции Н А Бегичева, вместе с которым Н. Н. преодолел, что называется, водный марафон — к мысу Входному и даже на запад к Диксону по волнам Карского моря.
На мой вопрос, что же самое трудное было в его жизни, Николай Николаевич, не задумываясь, ответил: «Северная Земля». Тут Николай Николаевич заметил на подоконнике книгу Г. А. Ушакова. Лицо его погрустнело: «Да, нет уже в живых ни Ушакова, пи нашего незаменимого помощника. каюра Журавлева. Из той экспедиции осталась половина: я да радист Ходов. Я еще тружусь, а Вася давно на пенсии. живет в Подмосковье и даже летом не снимает овчинную безрукавку — так его заморозил Крайний Север».
Кажется, именно тогда мне пришла в голову мысль: а ведь могло так случиться, что североземельцы стали бы Героями Советского Союза. Если бы их экспедиция проходила двумя годами позже, когда и учредили это звание... А потом героями стала уже другая четверка зимовщиков — с папанинской льдины.
Э. КУЛАГОВ, председатель Норильского отделении Российского минералогического общества, кандидат геолого-минералогических наук.
Дорогим Елизавете Ивановне и Николаю Николаевичу УРВАНЦЕВЫМ.
С любовь и глубочайшим уважением.
30.01.1973 г.
Присядь-ка, товарищ
Да песню сыграй
Про гиблое место.
Безрадостный край.
Про топи да мари,
Где жить — не расчет.
Про речку Норилку,
Что в тундре течет...
Про долгую ночь
Да про злую пургу,
Что стонет и гонит
И клонит в дугу.
Про тяжесть походов.
Про гибельный путь
И сырые туманы И лютую студь...
Про то, или рубили
По зимней поре
Мы первую штольню
В норильской горе.
Про штольню чуть больше
Песцовой норы.
Где напрочь крошились
Стильные буры.
Из месяца в месяц...
Породы тверды,
И нету, все лету
Заветной руды.
Пустую породу
приносит забой —
Хоть волком завой.
Хоть бросайся в запой...
Садись-ка, товарищ.
Да песню сыграй
Про щедрое место,
Разбуженный край.
Про мужество, стойкость,
Про труд да про риск,
Про город-красавец,
Чье имя — НОРИЛЬСК ..
В. ЗАХАРОВ.
«...Это два года неустанного упорного и тяжелого труда, который требовал и душевных сил, и огромного физического напряжения... Мы не говорим уж о постоянном риске — быть унесенными на льдах в море, свалиться с замаскированного снегом обрыва или замерзнуть в пути, захваченным» долгой пургой. Если бы труд этот не был добровольным, его можно бы подчас назвать каторжным. Но результаты его изумительны. Общая характеристика архипелага, составленная Н. Н., полностью сохранила свое научное значение».
Президент географического общества СССР, академик С. В. КАЛЕСМИК. 1969.
«...работа Н. Н Урванцева (о климате и условиях работы в районе норильского месторождения. — Ред.) была закончена им еще в начале 1928 г. Но, по независящим от автора причинам, долгое время не могла увидеть света. Между тем содержание работы представляло большой научный и практический интерес уже в момент ее написания. Ещё более актуальным является оно в настоящее время, когда после ряда детальных разведочных работ в районе мы стоим непосредственно перед началом широкой эксплуатации его богатств. При этом, если основное внимание сосредотачивается на рудных богатствах, это отнюдь не умаляет значений и его каменноугольных залежей, ставя вопрос об их использовании лишь в несколько иную обстановку...
Изложенные соображения заставили Полярную комиссию принять срочные меры к опубликованию поступившей в её распоряжение в декабре 1932 г. работы Н. Н. Урванцева. единственной обстоятельно трактующей физико-геогоафическую обстановку района...»
Академик В. П. ВОЛГИН.
Экспертная комиссия на основании полученных от рецензентов отзывов представила Ученому совету Обществе свое заключение. Ученый совет Общества в заседании ЗС июня 1958 г. постановил присудить за 1954—1956 гг. следующие медали и премии.
1. Большую золотую медаль Географического общества СССР за- 1956 г. (с премией в 25000 руб.) Николаю Николаевичу Урванцеву за совокупность работ и географические открытия в Арктике.
Н. Н. Урванцев —- замечательный исследователь природы и производительных сил Советской Арктики, чьи труды внесли достойный вклад в развитие советской географической науки. Его участие в изучении природных условий и нанесении на карту архипелага Северной Земли — выдающийся географический подвиг, сопряженный с величайшими трудностями, лишениями и опасностями.
Многочисленные географические исследования Н. Н. Урванцева по изучению Таймырского полуострова, Соедне-Сибирского плоскогорья, Северной Земли способствовали освоению природных богатств труднодоступных районов страны. Исключительно велика заслуга Н. Н. Урванцева в открытии Норильского каменноугольного бассейна и медно-никелевого месторождения.
Н. Н- Урванцевым создан ряд трудов по исследованию четвертичных отложений и древнего оледенения севера Сибири, проливающих новый свет на решение многих проблем физической географии, палеогеографии и стратиграфии Сибири.
Более чем за 30-летний период научно-исследовательской деятельности Н. Н. Урванцевым написано свыше ста специальных работ, посвященных географии Крайнего Севера.
Присуждение Н. Н. Урванцеву Большой золотой медали Географического общества СССР является заслуженной оценкой его географических исследований».
Академик Д. НАЛИВКИН (и другие).
(Известия ВГО, 1958, N9 6).
«...Его нравственный облик — целеустремленность исканий, смелость экспериментов, личное бесстрашие, бескорыстное служение Родино и науке... Никогда не покидает (его) трудолюбие, мужество, оптимизм».
Академик Д. И. ЩЕРБАКОВ.
«Н. Н. очень много сделал в смысле открытия и первой постановки использования полезных ископаемых около Нижнего Енисея и в других местах севера Сибири. Но если им добросовестно и умело исполнено его прямое дело — геологическое, то сделанные им .географические исследования... значительно превосходят его.«геологические труды, сами по себе очень значительные».
Академии Ю. М. ШОКАЛЬСКИЙ.
«Мы пришли сюда (на озеро Таймыр и Таймыр-реку. — РЕД.) с мыса Семена Челюскина... Сюда с юга на лодке спустился почти сто лет назад, академии Миддендорф, а недавно — знаменитый геолог Урванцев.
Как и они, мы пришли сюда для дела. Конечно, оно было далеко не столь важным, как первые открытия Великой Северной экспедиции, но все же существенным. Это был наш вклад в науку, в освоение Арктики, пусть и ничтожный сравнительно с их вкладом».
Академик Е. К. ФЕДОРОВ.
(«Полярные дневники».
Л., 1939. Запись 1933 г.
«Невозможно за один вечер перебрать весь фотоархив, накопленный Урванцевым за полувековые без малого странствия по Северу. Но тем радостнее для меня находить тут иногда дубликаты снимков знакомых... К категории исторических снимков можно отнести и фото бревенчатой избы... Первый дом Норильска — того самого красавца города, многоэтажными кварталами и архитектурными ансамблями которого не устают любоваться читатели «Огонька»... Фотолюбитель Урванцев поспорит, пожалуй, с огонькопскими мастерами..».
Савва Тимофеевич МОРОЗОВ
внук, писатель н журналист.
Из очерка «Колумб в пешем строю».
Л. 1067.
«Никому, на сверстников но уступал Николай в беге на лыжах, лазанье по горам. Купался от ледохода до ледостава. Неделями в любую погоду пропадал в тайге с ружьишком, ночуя то в шалашах, а то и вовсе под сводом небесным, питаясь свежей дичью, рыбой собственного улова или уж, на худой конец. дикими кореньями, каковые, по его словам. не менее богаты витаминами, чем с вощи и фрукты». (Там же).
«Я зимовал под его начальством около года на островах Самуила («Комсомольской правды»). Там я смог узнать его особенности, положительные и отрицательные черты характера. Он бывал кру» не всегда справедлив, вспыльчив, но быстро отходил и снова оставался доброжелателен и приветлив. Испытания, выпавшие потом на его долю, конечно, способствовали смягчению, а ие озлоблению. Он стал более терпим к людям. Возможно, и теперь он далек от эталона идеальной личности, но он был и остался Урванцевым
Никита БОЛОТНИКОВ, журналист н писатель, (Из письма В. Н. Лебединскому).
Уже трудно сказать, кому пришла в голову счастливее мысль, но она была поддержана сразу же. в год 50-летия НГМК, когда не стало Н. Н. Урванцева,. мы провели первый турнир его памяти. А на следующий год — второй, и боксерский мемориал стал традиционным.
Николай Николаевич, правда, боксером не был, но спортом занимался с детства. и особенно —в в студенчески^ годы. Хороший лыжник и пловец, проигрывать — как и в жизни — не любил, отличатся бойцовским характером, всегда шел вперед. Чем не пример для боксеров!
Позади восемь турниров памяти Урванцева. Лучшими его «учениками» можно назвать трижды победителей мемориалов Юрия Сибиля и Алика Курмаева, дважды выигравших финалы в своих весовых категориях Сергея Кунишникова, Сергея Могутнова, Алексея Котельникова, Николая Антонова,, Сеогея Чеснокова, Андрея Данилова. В этом списке — норильчане и дудинцы металлург и студент, плотики-бетонщики и водители, плавильщик и инструктор физкультуры; все они мастера или кандидаты в мастера спорта
В боксерских мемориалах Н. Н. Урванцева заметные роли играли боксеры Красноярска, игарчане, туруханцы. Семь турниров из восьми провел я качестве главного судьи мастер спорта Евгений Темин, известный норильский тренер, который ныне руководит детско-юношеской школой, в котором спортивные правнуки Урванцева делают первые шаги к будущим победам.
К. ДИМАКИН.
Заполярная правда 29.01.1993