












В бывшем Доме политического просвещения (ирония судьбы!) экспонировалась выставка «Творчество в лагерях и ссылках. Живопись. Графика, рукоделие. Ремесло» из фондов Московского общества «Мемориал».
Увидеть эту выставку я мечтала давно. Информация о ней была помещена в «ЗП» еще сентябре 90-го. Очень интересовало, как же это в условиях отсутствия свободы творца на воле, оно, творчество, существовав до в неволе. Думалось, что это невозможно.
И/дне очень повезло. На конференции по истории Соловецкой тюрьмы и лагеря особого назначения я познакомилась с Зоей Дмитриевной Марченко. Ее каторжная доля включала три ареста, Колыму, 503-ю стройку (железная дорога Ермаково — Салехард). Именно 3. Д. Марченко и О. В. Волков открывали памятник на Лубянке — Соловецкий камень. Часть воспоминаний Зои Дмитриевны вошла в книгу «Доднесь тяготеет», которую она мне подарила. Из ее рук я получила и каталог выставки «Творчество в лагерях и ссылках».
Открыв в нетерпении каталог, я увидела название географического пункта, записанное в моем паспорте в графе «место рождения»: село Журавлевка под Акмолинском. Места зауральские заселялись переселенцами много лет: во времена Столыпина, когда мои предки приехали с Украины; позже силой НКВД. Больше всего было немцев и ингушей. Я помню, как отец, который стал инвалидом Отечественной в Харьковской катастрофе, освобождал рамку от большого портрета Генералиссимуса. При этом он рассказывал, что километрах в ста от нас, на «точке», как это тогда называлось, содержась родственники военачальников, репрессированных Сталиным, в том числе самого Тухачевского. Много позже я узнала из первых карт ГУЛАГа.ю, что это был АЛЖИР — Акмолинский лагерь жен изменников Родины. А места там отнюдь не курортные, зимой Климат вполне норильский.
И вот наконец-то, побывав не один раз за границей, выставка приехала в Норильск» На ней я и увидала подлинники работ Ирины Александровны Борхман, созданные в ссылке под Акмолинском, Все работы художника- графика учившегося живописи в Мюнхене, невелики по размеру — альбомные. Хатка, изображенная, на одной из них («Пути отрезаны»), такая же беззащитная, как ее автор. Ирина Александровна была арестована только за то, что немка, попала в Воркутинский лагерь. В Казахстане; в ссылке, миллионы страдали от жажды по свободе и от недостатка воды — ее там всегда не хватало, а на вкус она была горько-соленой...
Еще один -автор выставки — Евсей Потапович Винивитин. Почти весь, свой лагерный срок он пробыл на общих работах в Норильске и Дудинке. Известно, что после такого труда пальцы рук долго не могут разогнуться. И потом, когда художник начинает работать по специальности, то творит он прежде всего силой души, волей, а уж затем карандашом, кистью, пером.
Перед витринами, в которых лежат вышивки, хотелось тише дышать. Что значило рукоделие? Это и занятие, и воспоминание, и мечта. Это символ невысказанной муки, рисунчатое письмо. Узор на вышивке М. Н. Окружной (50-е годы, Магадан) четко читается как «SOS» — «Спасите наши души!».
Немногое из работ, созданных в местах весьма отдаленных, смогло дойти до нас.К «плохим условиям хранения» можно отнести не только перепады температур, повышенную влажность; но и то, что держали эти работы в матрасовках,. прятали, передавали на волю. Рисковали создатели картин и рисунков на обысках...; Иногда произведения лагерных и тюремных художников не гибли потому, что начинали жить отдельной от авторов жизнью, не подчиняясь законам исторического материализма.
В экспозиции на Стене памяти была фотография Федота Сучкова. Недавно он помог установить фамилию еще одного заключенного Норйльлага, назвав его в своих воспоминаниях. Это сын писателя Андрея Платоновеа— Антон Андреевич Климентов, что не было раньше известно. Именно из каталога выставки мы узнали и о Винивитине.
Посмотрев выставку и не увидев на ней отображенной чисто лагерной тематики (кроме работ А. А. Мерекова), разочарования не испытываешь. Соцреализм имел строго очерченные политотделами рамки. Любая попытка выйти из них, как из строя, каралась. Статьи за антисоветскую пропаганду существовали всегда и применялись открыто. Потому любой экспонат на выставке воспринимается как чудо и память обо всех, от кого ничего не осталось, кроме лагерной пыли...
Хорошо, что выставка все же добралась до Норильска. Здесь она. нужна ничуть не меньше, чем в Австрии.
Н. ДЗЮБЕНКО.
НЕ МОГУ сказать, что выставочный зал городского центра культуры, где с 13 апреля экспонировалась выставка «Творчество в лагерях и ссылках» из фондов Московского общества «Мемориал», пустовал. Нет, посетители были. Вот группа шведов, оказавшаяся по делам на Орджоникидзе, 15, провела там почти два часа. Двое из них пришли, и на следующий день, и я сама видела, как один из них, совсем молодой, ходил с потрясенным лицом от одной работы к другой, а затем останавливался у карты ГУЛАГа. Среди норильчан такие зрители встречаются реже. К сожалению, это и про нас песня Александра Галича, звучавшая в зале:
Ни гневом, пи порицаньем
Давно уж мы не бряцаем!
Здороваемся с подлецами,
Раскланиваемся с полицаем.
Не рвемся ни в бой, пи в поиск.
Все праведно, все душевно!
Но помни — отходит поезд
Сегодня и ежедневно!
Одним из первых - посмотреть работы репрессированных художников пришел фотокорреспондент «ЗП» Н. В Плеханов. Он и попросил меня написать текст к снимкам...
Триптихи А. А. Мерекова, проведшего десять лет в колымских лагерях, вместо четырех, определенных ему одесским судом в 1936 году, на мой взгляд, сродни «Колымским рассказам» В. Шаламова. Кстати, они там были в одно время. И то и другое написано собственной кровью, собственной судьбой.
Ясно, что художник, как и писатель, считает лагерь отрицательным опытом для человека, «отрицательным с первого и до последнего часа». И жалеет, что собственные силы вынужден направить на преодоление именно этого материала. Об этом свидетельствуют и карандашные рисунки А. А. Мерекова «уцелевшие на пятом году лагерей». (См. фото справа).

Из 20 авторов, чьи работы представлены на выставке «Творчество в лагерях и ссылках», есть два художника, прошедших Норильлаг. Один из них для нас остается пока автором всего одного произведения — живописного 'пейзажа, изображающего Ламу. Известна фамилия художника Курочкин и дата — 1945 г. Других сведений пока не обнаружено.
Второй, член Союза художников, стал известен, он живет в Красноярске. В Норильлаге они были примерно в одно время. У Евсея Потаповича Винивитина сохранилось около десятка карандашных набросков, выполненных в Норильске и Дудинке в 1938— 1942 гг. (фото слева).

Евсея Винивитина арестовали и осудили,, когда он был студентом Омского художественного техникума. Было ему тогда 22 года, и получил он за агитацию колхозников против советской власти восемь лет ИТЛ и пять поражения в правах. В Норильлаге и Дудинском отделении работал до 1945 года. Через 14 лет реабилитирован.
В годы широкого лагерного строительства каждый уважающий себя начальник непременно организовывал в лагере театр. Caмыми театральными труппами считались воркутинская, магаданская, печорская, ухтинская, интинская и норильская.
Сценография на выставке «Творчество в лагерях и ссылках» представлена эскизом В. И. Шухаева к спектаклю в Магаданском театре и работами М. 3. Рудакова в Воркутинском театре.
График и живописец Михаил Захарьевич Рудаков в лагерь попал (под Воркуту, а затем в Архангельскую область) в 1944-м, на пять лет, из-за того, что в 1941-м, тяжело раненный, был взят в плен.
Впоследствии его, конечно, реабилитировали.
Из 40-х годов сохранился самодельный блокнот Рудакова с набросками, сделанными в ИТЛ Архангельской области, и альбом с одиннадцатью рисунками выполненными уже в ссылке в Котласе в 1953 году.
В объектив Н.В. Плеханова попала и научная работа физиолога Е.П. Гольд "Авитаминозное поражение глаз" с её иллюстрациями.
Для тех мест и того времени - явление достаточно редкое, но не единственное.
В фондах нашего музея хранится диссертация В.А. Кузнецова с рисунками заключенных О.Е. Бенуа и Е.А. Керсновской. Ольга Елисеевна помогала доктору, когда находилась на лечении в центральной больнице лагеря, а Евфросинья| Антоновна работала там же санитаркой.
Екатерины Алексеевны Гольд нет в живых уже ровно полвека, она погибла в 1943-м в лагере в Воркуте. И эта работа — единственная память о ней ( (См, фото слева).
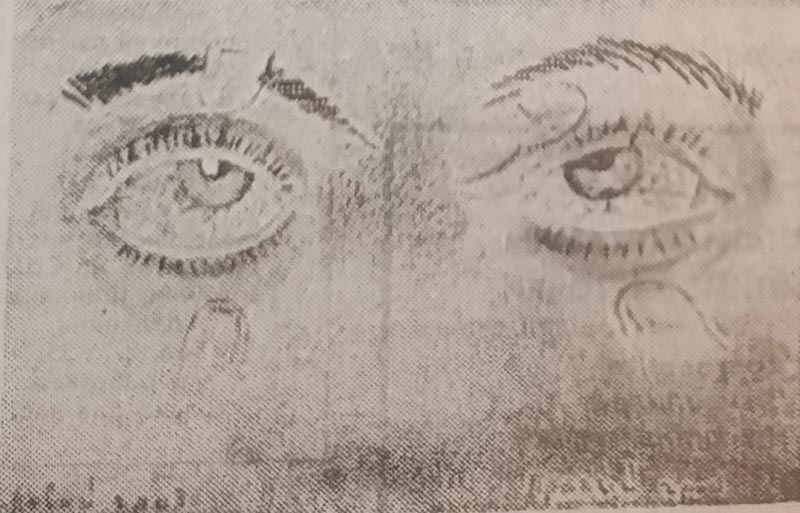
В. ВАЧАЕВА. Фото Н. ПЛЕХАНОВА
Заполярная правда 20.05.1993