












Эдвард Колпак. 15 лет скитаний 1940-1955
 Это было холодной, мрачной и темной ночью 12 X 1940 г. когда разбудил меня
лай собак и громкий стук в дверь. Пока я очнулся, в комнате, в которой я спал,
было двое русских. Один из них симпатичный, крепкий блондин, второй черный, с
еврейскими чертами лица. Приказали мне встать, а когда я не выполнил их приказ,
этот черный сорвал из меня одеяло и крикнул: „ Ты что, барышня?”. Когда я уже
оделся в мундир брата, сапоги и тулуп, то выпроводили меня из дома на двор, а
там ожидал нас советский милиционер и конь в упряжке. Я был передан милиционеру,
и остался с ним, а мои два преследователя удалились в жилье прежнего сельского
головы для обыска. Долго длился тот обыск. В то время милиционер, который меня
охранял, заснул на телеге, я спрятался от ветра за конём и достаточно долго там
стоял, аж в конечном итоге милиционер проснулся и в ужасе облетел несколько раз
вокруг телеги, не заметив меня, пока я не отозвался, тогда он успокоился.
Это было холодной, мрачной и темной ночью 12 X 1940 г. когда разбудил меня
лай собак и громкий стук в дверь. Пока я очнулся, в комнате, в которой я спал,
было двое русских. Один из них симпатичный, крепкий блондин, второй черный, с
еврейскими чертами лица. Приказали мне встать, а когда я не выполнил их приказ,
этот черный сорвал из меня одеяло и крикнул: „ Ты что, барышня?”. Когда я уже
оделся в мундир брата, сапоги и тулуп, то выпроводили меня из дома на двор, а
там ожидал нас советский милиционер и конь в упряжке. Я был передан милиционеру,
и остался с ним, а мои два преследователя удалились в жилье прежнего сельского
головы для обыска. Долго длился тот обыск. В то время милиционер, который меня
охранял, заснул на телеге, я спрятался от ветра за конём и достаточно долго там
стоял, аж в конечном итоге милиционер проснулся и в ужасе облетел несколько раз
вокруг телеги, не заметив меня, пока я не отозвался, тогда он успокоился.
Наконец вывели голову с его дома, подошли ко мне и очень вежливо попросили, чтобы я показал им дорогу к Вормянам. Вормяны это был наш не большой городок, расположенный в 3 км от нас, следовательно, объяснял им лсак умел, что это близко и только 3 км отсюда, но они так просили, что не мог отказать, следовательно залез на телегу и поехал показывать им дорогу. Мы приехали в Вормяны, „вежливые” россияне поблагодарили и пригласили нас с селским головой к посту милиции, там велели нам отдохнуть до утра и сказали: „утром пойдешь домой”.
На посту мы сидели до утра, с нами был вроде бы милиционер, я пишу „вроде бы” потому что был одет наполовину военно, наполовину цивильно. Красная повязка на рукаве и пистолет на поясе. Когда стало рассветать, пришли те два россиянина, блондин и черный, с очень невинной просьбой, чтобы я их отвез на поездную станцию, потому что у них нет телеги и хорошо мне за это заплатят. До станции было около 10 км, следовательно я согласился. Дорога вела возле костела, когда мы доехали к костелу, то я снял шапку с головы, на этот вид черный рассмеялся насмешливо мне говоря: „Что ты, в Бога веришь?” Ответил, что верую, на что он снова насмешливо: „Е, мы не верим в Бога, и посмотри - мы летаем так высоко самолетами и негде его там не видели, увидим ли ваш Бог тебе поможет и будешь ли иметь ты свою Польшу”, ну и так всю дорогу этот черный шутил надо мной, а блондин лишь с жалью на меня смотрел - может в действительности с жалью, потому что знал что меня ожидает. Мне было тогда только 18 лет, и я был парнем из села, спокойным и никому ничего невинным, о чем он хорошо знал. Едем мы дальше, через наши любимые леса, поля и наши ближние сёла, пока не доехали к железнодорожной станции Гудогай. Остановились там возле одного дома, „черный” слез, и пошел в тот дома, через минуту вышел и велел привязать коня к плоту. „А мы - сказал - пойдем в буфет покушать”. Отходим, в определенном моменте я оглядываюсь и вижу, что какой-то толстун садится на эту телегу, которой мы приехали и едет, я хотел его остановить, хотел кричать, чтобы не трогал коня, но мои „товарищи” успокоили меня, говоря, что пока мы съедим, он вернется, и я поеду домой. Входим на вокзал, но мы не идем в буфет, как было предварительно сказано, а прямо к кассе. Товарищи мои просят три билета, по получении их мы сразу идем на перрон и в вагон. Не понимая, что со мной делают, я стал протестовать, говоря: „Куда вы меня ведете, никуда я не поеду”, но они очень вежливо стали меня успокаивать, говоря: „Не бойся, мы лишь немного тебя перевезем и вернешься домой”. Мы зашли в вагон, поезд рушил, а мы сидим в пустом купе и едем, мы едем, я смотрю в окно вагона, и вижу, как красиво светит наше польское осеннее солнце, а на полях люди копают картофель. Стало мне грустно, и я заплакал, говоря им: „Отпустите меня, куда везёте?” На то „черный” ответил: „Пойдешь советский хлеб кушать, уже не будешь есть польский хлеб и не будешь больше видеть Польше, будешь работать для Советского Союза”. Ну, едем так дальше, я сидел грустный с опущенной головой, они также почти не отзывались друг к другу и мы приехали в Молодечна. Вероятно, хотели оставить меня в Молодечном в тюрьме, но там не было мест, забрал нас грузовик, который ехал со служащими в Старую Вилейку. Автомобиль остановился у дома, в котором был НКВД, недалеко тюрьмы, я и мои „товарищи” высадились и пошли к тому зданию. Уже не помню, на какой этаж, знаю лишь, что в кабинет №1. В длинном коридоре по правой стороне находился кабинет №1, а по левой уборная, следовательно мы сразу вошли в кабинет справа. Между дверями и кафельной печью стоял стул, где сказали мне сесть. В кабинете стояли два стола, сложенных вместе, за одним слева сидел темный, молодой (сам говорил, что ему 23 года), достаточно эстетичный парень, одет был в мундир, а на воротнику имел по одной „шпале“ [балке], это такой признак звания, а по правой стороне стола сидел также темноват, немного лысоват украинец. На воротнику было по четыре квадратика. По правой стороне кабинета встроенный в стену шкаф и дверь в другой кабинет, но были закрыты, войти можно было только с коридора. Мои товарищи путешествия тихо поговорили с тем черным с левой стороны и вышли, я также встаю и хочу с ними идти, но они сказали мне, чтобы я их подождал здесь, а они сейчас прейдут. Я сел и долго так сидел, в конечном итоге этот молодой спросил, зачем я сюда приехал. Ответил, что не знаю, знаю лишь то, что товарищи меня сюда привезли, а он крикнул: „Какие они тебе товарищи, вот будешь рассказывать, зачем тебя привезли?”. Через минуту спрашивает мою фамилию, имя, имя отца и матери, и адрес, все записывает и выходит с этим листком, долго не возвращаясь, а я сидел. Этот украинец не отзывался ко мне, а не словом, лишь все время пересматривал какие то папки.
Наконец-то вернулся этот молодой, черный, с какими-то папками в руках, сел за стол и зовет меня. Когда я приблизился к столу, он открыл папку и говорит мне подписать, но я поинтересовался, зачем я должен это подписывать? Отвечает мне, что я арестован. Арестован! Меня словно молния ударила, я взорвался плачем, не обращая внимания что вокруг меня творится, успокоившись, спросил, за что я арестован, а он рассмеялся и сказал: „Вот будешь рассказывать”. Я говорю, что ничего не знаю, я не виновен и не буду подписывать, а он ответил: „Тогда мы тебя заставим” и ударил по лицу, так, что я упал, а он подбежал и начал меня пинать ногами, и очень непристойно меня материть и обзывать („вот польская морда, вот подлец”), и в целом, что ему на язык пришло. Потом приказал мне сесть, а сам где-то вышел. Долго его не было, когда вернулся, подошел ко мне улыбаясь, и спросил, надумал ли я подписать эти документы, я ответил, что не подпишу, потому что я не виноват. В то время прозвучал стук в эти двери, возле которых стоял шкаф и голос с того кабинета: „Слушай Кацо, как там тот, что не хотел подписать?”. А тот с этой стороны крикнул, что не подписал, тогда голос из того кабинета: „Скажи ему, что если на протяжении 5 минут не подпишет, то мы его расстреляем!”
Когда я это услышал, очень испугался и стал плакать, потому что я не знал где я, думал что захватила меня какая-то вражеская банда, как заложника, но думаю себе, что ведь это невозможно, чтобы коварно забрать совсем невинного парня из дома, и также невозможно, чтобы представители власти так вульгарно высказывались, потому что ведь сам когда-то читал в советской газете, что в СССР дают 5 лет тюрьмы за одно вульгарное слово, а тут все так выражаются. Подумал себе, что это не может быть советская власть, значит без сомнения какая-то банда, значет подпишу, может меня не расстреляют, может кто-то эту банду схватит, и меня освободят из этой неволи.
Во время моего размышления, мой „Кацо”, как его называли, опять говорит мне: „Слышал, что из того кабинета о тебе говорили, следовательно как думаешь, подпишешь и будешь жыть, или также не подпишешь и будеш расстрелян? Выбирай, потому что мы с такими не цацкемся. Или так или так, лучше подпиши, и даёт мне в руку перо. Дрожа и рыдая подписал эти документы, сложенью на тонкой бумаге, почти прозрачной, писаной на печатной машинке, но что там было написано я не знаю, потому что по-русски читать не умел и никто мне перед подписанием не прочитал. В конечном итоге берет „Кацо” телефон и просит к кабинету №1 милиционера. Через минуту появляется вооруженный милиционер, получает приказ от „Кацо”: „Возьмитие эго”. Потом приказал мне встать, руки за спину, не разговаривать, не осматриваться, в случае побега применит оружие без предупреждения, и в направлении выхода шагом марш. Ведет меня к тюремным вратам.
Мощные, железные ворота открылись и быстро закрылись за мной. Отвели меня в баню, там приказали раздеться догола, одежду обыскали, отрезали все пуговицы с мундира и брюк, проверели все швы, пояс и тулуп забрали в хранилище, больше я эго некогда не видел. Подстригли меня на голове и внизу. Приказали идти в душ, где уже купался какой-то человек, которого забрали раньше, чем меня, я поинтересовался, где мы находимся? Он удивился, что я не знал и говорит: „Мы находимся в тюрьме, в Старой Вилейце”. Я на то отвечаю, что я знаю, что в Старой Вилейце, лишь кто те люди, что так коварно забрали меня ночью из дома, и кто те, в тем большом доме, что так вульгарно матерятся, ведь невозможно, чтобы это было правительство, разве что какая-то банда, потому что ведь я читал в газете, что у них за такие выражения грозит 5 лет тюрьмы. Мой товарищ недоли улыбнулся и сказал, что его также этой ночью забрали, что это НКВД, что это высокая советская власть, и что они так забирают ночами много наших людей, и с ними вот так же ведут себя. Следовательно, я был осознан, что нахожусь в настоящей власти.
После мытья отвели меня в подвал, он был поделен на тюремные камеры, завели меня в одну из них, была пуста, не было там ничего, не было скамьи, ни койки, ни постели, было там холодно, потому что в окошке через которое было немного видно ворота, не было застекленной рамы. Я немного постоял в углу, держа руками штаны, чтобы не упали, потому что ведь не было ни одной пуговицы, ни поясе. Я был уставшим, прилёг на влажном полу и заснул. Я спал не знаю как долго и проснулся очень замёрзшим, стало мной трясти, да и то так сильно, что услышал это караульный на коридоре и забрал меня на минуту на коридор, где обогревалось железной печкой. Когда согрелся, закрыл меня опять в моей камере. Было мне по-прежнему очень холодно, и так я звенел зубами до утра. Сутра принесли черного, как земля хлеба и горшок „кипятку”, то есть горячей воды, я укусил два раза и положил хлеб, в то время раскрываются двери и говорят мне выйти.
Я выхожу, ведут меня к воротам, выпускают за ворота и ведут туда, где я был вчера, в кабинет №1. Остаётся без изменений тот же стул возле печи, которая была очень горяча, слева за столом сидел Кацо, справа украинец. Говорят мне садиться возле печи на тот стул. Я сидел достаточно долго, никто ко мне не отзывался, в конечном итоге мой Кацо достал моё дело, что-то там писал и зовет меня к себе, дает мне перо и я говорит подписать.
Но я сегодня уже умней, и знаю, что нахожусь у законной власти, следовательно категорически отказываюсь в подписаниях фальшивых обвинений о поступках, которых я не совершал, потому что, хоть я не знал, что там написано, но я знал без сомнений, что там никаких для меня похвал нет. Я упираюсь, что не подпишу это. „Ах так, - говорит Кацо - не подпишешь, то мы тебя заставим”. Встает и бьёт меня несколько раз, и снова спрашивает: „Подпишешь или не подпишешь?” Я говорю, что не подпишу. Кацо вытягивает из шуфляды резиновую палку, такую же, как у нас носит милиция и бьет этой палкой, где попало, но больше всего бьет по ногам выше коленей. Бил так долго, пока не устал, потом приказал мне сесть, а сам закурил сигарету и угостил украинца. Потом подошли ко мне с дымящими сигаретами и пробуют меня убедить, чтобы добровольно все подписал, потому что теперь уже все от них зависит, что со мной будет. Советуют мне, что лучше всего сделаю если во всём сознаюсь, честно всё им скажу, потому что они и так всё обо мне знают, лишь хотят, чтобы сам перед ними во всём раскаялся. Говорят: „Мы и так всё знаем, что ты Советского Союза не любишь, и хочешь Польскую власть, вот потому ты и являешься нашим врагом, мы об этом знаем, но мы хотим, чтобы ты сам в этом сознался, следовательно подпиши этот протокол, что я написал, что будешь с нами сотрудничать, будешь нам доносить, кто не любит Советского Союза, или на нас что-то наговаривает, то мы тебя выпустим, и не будешь тут сидеть. Подпиши и не заставляй нас гневаться”.
Но я дальше объясняю им, что меня нет за что винить и что я не совершал ни одного преступления, и чего от меня хотят, ведь я не могу выдумывать себе вину, которой я не совершал, и я не могу этого подписать и не подпишу. „Говоришь, не подпишешь, а я тебе говорю, что подпишешь”. И Кацо бьёт меня по голове правой рукой, а украинец левой. Били по голове, как по мячу, один бил другому, голова склонялась то в одну, то во вторую сторону, били каждый раз всё сильней, в голове посстал шум и звон. В конце концов, уставший от лупцовки Кацо спрашивает: „И как, подпишешь?” Я отвечаю, что не подпишу, потому что не виновен. Посмотрели на меня, затянулись сигаретами, аж жар раскраснелся и приложили мне к лицу эти горящие сигареты, один с одной, второй с другой стороны, сзади была стена, следовательно голова была не подвижна. Прижигали лицо так долго, аж сигареты потухли. Было это очень болезненно, ведь это был огонь, лицо выглядело ужасно, потому что было побитое, обожженное и опухлое. И снова велят мне подписать, но я опять отказываюсь, и они придумывают мне новое наказание, говорят мне приседать, сначала 10, как сделал 10, то велели сделать 20, как сделал 20, то велели делать 30 и т.д. и т.д., аж до тех пор, пока не упал, и уже не мог встать. В это время в кабинет вошел, какой-то молодой, высокий и красивый блондин, в красивом новом мундире, очень изуверский, когда увидел, что я лежу на полу, поинтересовался: „Что это за скотина лежит?” Они отвечают: „Не хочет делать приседаний, потому и лежит”. Тогда он подскочил ко мне, и начал пинать ногами, где попало. Топтался по мне, обзывая наихудшими словами, какими только умел, так надо мной издевался. В конечном итоге, добежали еще Кацо и украинец, схватили меня за одежду, в который я был одет, подняли вверх, а блондин сзади пенал меня по заду, а они то поднимали меня вверх, то бросали об пол, а тот сзади все время пинал. В конце взял в руку резиновую дубинку и как они меня поднимали вверх, то он бил этой палкой по заду и по спине, а как бросали, то я ударялся задом о пол. Издевались так долго, что устали, а я уже был едва жив. Потом посадили меня на стул, возле горячей печи и велели закинуть голову назад и смотреть вверх. Я сидел в этой позиции достаточно долго, а они после тяжелого труда подкурили сигареты, шутили и весело смеялись.
Через некоторое время молодой блондин говорит мне встать, кладет на голову приборы для письма, и велит ходить по кабинету, руководя при этом дулом пистолета в моем направлении. Пригрозил, что если приборы упадут, то „убью как собаку”, следовательно я шел очень бережно, а они весело насмехались с меня, говоря: „Вот польский пан, он Польшу хочет, мы твою Польшу и тебя под каблуком держим, твоей Польши некогда не будет, уже ее больше некогда не увидишь” и так далее, и так далее.
Наконец блондин вышел, а мне говорят садиться. Мой палач Кацо стал что-то писать, потом зовет меня к столу и читает то, что написал, что следствие имеет данные, что обвиняемый Колпак - враг советской власть и ждёт возрождения Польши, и так далее. Ответ обвиняемого, то есть мой „Ничего не знаю, я невиновен”. Поскольку так прочитал, то может так и написал, следовательно я подписал. Тогда Кацо поднял телефонную трубку и попросил в кабинет №1 милиционера. Милиционер приходит и проводит меня к тюремным вратам, а караульный в свою очередь проводит в предыдущую камеру. Там лежал мой хлеб на окне, а возле него стоял малый котелок какого-то супа. Но ложки не было, краем котелка немного отпил этого супа и сел на тот влажный пол. Болели у меня все побитые места, а больше всего болела голова и лицо.
Было мне очень грустно. Я стал молиться и горько я плакать, это было воскресенье 13 X, а к тому же еще и мой день рождения, который вонзился в мою память навсегда. И с того времени водили меня почти целый месяц, почти каждого дня на допросы. Пытки были всегда такие же или похожие, но самые худшие, это были ночные пытки, потому что тогда мы оставались один на один с Кацо и ничто его тогда не смущало, и мог издеваться надо мной, столько сколько хотел.
Во время этих допросов одна ночь, была самой ужасной, ночь которую я некогда не забуду: когда еще я спал в камере, снится мне, что я дома в саду и срываю из грядки две зеленых патл боба и съедаю их, мгновенно из одного большого зерна, размером с яйцо, трескается скорлупа и вылезает рыжая голова гадюки с открытой пастью и высунутым языком, смотрит на меня и страшно шипит. В этот момент заскрежетал ключ в дверях и прервал мой сон, а караульный приказал мне одеться и выходить. Одеваться не было во что, потому что ведь я все и так имел на себе, следовательно выхожу. Караульный проводит меня к воротам, а там передает милиционеру, а тот ведет в тот же кабинет №1. Когда я вхожу, к моему удивлению вижу аж девять энковедистов, двое сидело, а семь стояло сгруппированных в углу.
Говорят мне садиться и рассказывать. Один из них сказал, что они все знают, советует мне самому во всем сознацо. Спросил: „Скажи правда ли, что ты не доволен советской властью и говорил ли, что как пришла советская власть, то жизнь улучшилась лишь для евреев?” и так далее. Я возразил, что ничего такого не говорил.
Тогда группа стоячих в углу расступилась, и я увидел сидящую в углу хорошо мне
известную девушку, некую Юзе Козак - именно по рыжих волосах. Тогда прозвучал
вопрос, знаю ли я эту девушку, я ответил, что в общем знаю. Спрашивают девушку,
знает ли она меня, она также отвечает что знает. Так поскольку его знаешь, то
скажи, что ты о нём знаешь - обращаются к ней. Она оторопела и молчит. Опять
обращаются к ней, чтобы сказала, то что обо мне знает. Она тихо отвечает: „Ведь
я уже вам говорила”. Но скажи так, чтобы и он услышал. Девушка молчит. Они
видят, что она не хочет в моем присутствии ничего говорить, тогда задают ей
вопрос: „Правда ли, что обвиняемый не любит советскую власть?” Она опустила
низко голову и только тихо ответила: „Ухм...”, дальше еще ее о чем-то
спрашивали, она опять ответила так же.
Тогда я не выдержал и назвал ее свиньей и еще чем-то не приятным, они меня
ударили по лицу и приказали молчать. Потом еще что-то спрашивали девушку, а она
в конце сказала: „Вы закройте его также на 10 дней в карцер, как меня, он также
во всём сознается”. В то время был уже приготовлен протокол с допроса, что
девушка подтвердила, что обвиняемый Колпак говорил это, и что также признал свою
вину. Говорят ей подписать этот протокол, она подписала и ее вывели. Потом дают
мне перо и говорят также подписать, но я сказал, что не подпишу, потому что это
все ложь, я невиновен.
В то время все вышли из кабинета, остались лишь я и мой палач Кацо. Во всем здании была совершенная тишина, потому что была уже глубокая ночь. Кацо открыл шуфляду стола, вынул пистолет и резиновую дубинку. Дуло пистолета направил на меня и сказал:
„Если не подпишешь, то убью тебя как собаку”, но я снова ответил, что такую ложь не подпишу, может меня даже убить. Тогда разгневанный Кацо подбежал ко мне и так страшно бил палкой, что устал, в конечном итоге пнул меня в зад так, что я перевернулся, и дальше продолжил меня лежащего пинать ногами, пинал меня по животу, по лицу и по всему телу, аж сломал носовую перегородку, потом сел на меня и продолжал бить палкой до тех пор, пока я не потерял сознание, тогда он выволочил меня в уборную, которая находилась напротив по левой стороне коридора, там обливал меня холодной водой пока я не очнулся.
Когда я открыл глаза, я увидел, что лежу на полу в уборной, а Кацо поливает меня водой. Тогда Кацо помог мне встать и отвел меня опять в свой кабинет, приказал сесть на тот самый стул и опять начал мучать меня, чтобы я подписал тот несчастный протокол, на что я ответил решительно, что не подпишу, что может меня даже убить, но я не подпишу. Очень разгневал его мой такой решительный ответ, подбежал и опять начал жестоко бить резиновой дубинкой по голове, по лицу, а больше всего по ногам выше коленей. Были так сильно побитые бедра, что были черными и даже не мог их коснуться, но когда так бил, то уже почти не чувствовал боли, они просто уже онемели, издевался очень долго и истязал как только мог.
Стало мне уже безразлично, я не реагировал на эту лупцовку и пытки, я был как безумный, тогда он сам выпроводил меня к тюремным воротам, а отсюда караульный отвел меня в другую камеру, где был уже один заключенный, звали его Витек, также был из села недалеко от меня, но я не знал его на свободе. Он тоже был очень подавлен. После этих пыток не мог найти себе места, и уже даже был готов уйти из жизни, я задал себе вопрос, за что они меня так мучают, ведь я в действительности не виновен и ничего им не сделал, так за что? За что? Но тут я подумал себе, что Иисус был Богом и также без вены очень мучился, до тех пор, пока не был убит, а я человек и на данный момент еще живу, я должен жить и выдержать.
На следующий день привели в нашу камеру еще одного товарища недоли. Звали его Юзек, а фамилия Гошьчило. В польской армии в 1939 г. был парашютистом, очень хорошим был человеком.
Втроем было нам веселее, хоть пытали нас и дальше. Когда возвращались из допроса, то было достаточно лишь посмотреть на того, кто вернулся: понимали друг друга без слов, и видели через что он перешел, даже не общались на эту тему. Уже более 3 дней, как меня не вызывали. На четвертый день двери раскрываются, караульный спрашивает на букву „К” кто есть, я сказал свою фамилию, велел мне выйти и отвел к воротам, где уже ждал милиционер, который отвел меня к зданию НКВД. Так не хотелось мне туда идти, я шел туда как на смерть.
Я прихожу как привычно в кабинет №1, за столом сидят те самые, говорят мне садиться и снова всё то же, говорят встать, снова лупцовка по бедрам и вынуждают к подписанию неизвестно чего. В конце концов, мой Кацо выходит из себя и угрожает, что закроет меня в карцер со словами „ сдохнешь там как собака”. Было это 5 ноября, приближались их праздники октябрьской революции, и он говорит: „Вот будет праздник, мы будем праздновать, веселиться, а ты будешь гнить в карцере” и действительно говорит закрыть меня на 5 дней в карцер, то есть от 5 до 10-ноября. Раздели меня до майки, но брюки и обувь оставили, бросили меня в прежнюю уборную, которую переделали размером около 1 метра ширины, и около 2 метров длины. Бетонный пол, окошко высоко под потолком, но без оконных стекол. Второе окошко было во внутренней стене с решетками и оконными стеклами, предупредили меня, что все время я должен стоять, нельзя мне садиться ни опираться о стены, иначе я буду наказан за неисполнение приказа. Я стоял от обеда до утра. Было холодно, потому что ведь это был бетон и окно без оконных стекол, а я был без одежды. Я был очень голоден, в дополнении был то ведь ноябрь и ночью были заморозки. С утра получил 300 гр. черного как земля хлеба и полулитровый горшок кипятка. Была это дневная порция. Я проглотил это как собака муху и дальше стою, на стены опираться не разрешала охрана, которая непрерывно заглядывает через дырку в дверях, если бы заметили, что человек хоть немного опирается, то влетали с криком и угрожали: если не будешь придерживаться тюремного распорядка, то еще продлю тебе пребывание в карцере на 3 сутки. Следовательно, вынужден был, терпеливо стоять, хоть ноги у меня опухли, так что не помещались в сапогах. На второй день я заметил во внутреннем окне держащегося руками за решетки заросшего человека, который сказал мне: „Я священник и сижу на общих условиях, я буду тебе повседневно помогать, я буду мою порцию, делить на двоих”. И действительно, когда священник получил обед, то тихонько постучал в мое окно и шепнул: „подай мне свой горшок”, я быстро подал, а он налил мне половину из своей порции супа и подал через то окошко. Ох, кокая же это радость, что человек немного чего-то съел. И так было повседневно, священник мне помогал, то бросил через то окошко кусочек хлеба, то крупицу сахара, а на обед и на ужин немного супа. Но помощь очень мне помогла, потому что если бы не то, истощенный и измученный человек не выдержал бы.
7 ноября ночью раскрываются двери и в камеру входит какой-то высокий чиновник с звездочками и спрашивает, за что я здесь сижу. Я отвечаю, что сам не знаю, тогда караульный меня поправил извещая, что следователь меня посадил. Было очень трудно, особенно эти последние дни, с каждым днем более я был все больше истощен, уставший и больной, голодный, простуженый и опухший. В конечном итоге пришло 10 ноября, в послеобеденный час раскрываются двери, говорят выходить. Я вышел следовательно, волок ногу за ногой, когда доволок себя к лестнице, ноги вверх я не мог поднять. В результате я опрокинулся, тогда подошел караульный, взял меня под руку и медленно привел в кабинет № 1, а там как обычно вилели садиться і Кацо спрашивает: "как там, было тебе хорошо"? Я ничего не ответил, он дальше свое: "Вот, если ты не подпишешь, то пойдешь туда обратно" и начал что-то писать, а как написал, то позвал меня к столу и читает, что обвиняемому девушка доказала, что он не любит советскую власть и так далее. Ответ обвиняемого то есть моя, что это нет правда, что я нив чём не виновный. Касо так прочитал, но так ли написал этого я не знал, потому что ведь читать по-русски я не умел. Но поскольку так прочитал, то я подписал, и больше уже меня не бил, только говорил отвести в камеру, в которой находились Витек и Юзек. Когда я вошел в камеру, то мои коллеги, остолбенели и не могли меня узнать, но когда отозвался: "Что так на меня вы смотрите"? То они в голос: "Эй, это ты! Мы думали, что тебя на свободу выпустили, но скажи нам что с тобой"? Следовательно я рассказал им свой переход, они были очень удевлены от этого всего.
В этот момент караульный принес горшочек супа, потому что то уже был ужин, я съел этот суп, был очень вкусный, никогда в жизни такого вкусного супа я не ел, а как я лег на стогу сена, то спал как никогда раньше, удобно было как на мягком диване и пуховых перинах, я спал в течение двух дней, я не слышал как за стеной в кузни ковали. В конечном итоге коллеги розбудили меня, потому что побаивались о мою жизнь, говорили, что я мог бы совсем не проснуться, а как я проснулся, то накормили меня и мы были рады, что снова вместе. Юзек рассказывал нам о самолетах и парашютах и как он прыгал, рассказывал о армии, мы также рассказывали о своей жизни , хоть я не имел много к рассказу, потому что был очень молод и проживал в селе, следовательно охотно слушал.
Однажды последний раз призвали меня в кабинет №1, Кацо известил меня, что следствие было закончено и хотел бы я еще что-то дополнить, я ответил, что нечего мне дополнять, что я невиновен. Так следовательно я попрощался с ними и с кабинетом №1 и больше не видел ни Кацо, ни украинца, ни кабинет №1.
Сразу провели меня к другой камере, номер 26, и больше уже Витка и Юзека я не видел. А в камеру №26 привели около 20 белорусов, которые были забраны в польскую армию в 1939 г. и во время военных действий попали в плен к немцам и, оттуда убежали, а на границе советско-немецкой были задержаны за пересечение границы, посажены в тюрьму и позже осужденны на 1 год тюрьмы. Не были они очень благосклонные к полякам. В нашу камеру доводили все больше узников, так, что было нас в конце приблизительно 80 мужчин, точно я не помню. Между прочим в камере были профессора, философы, летчики, крестьяне, рабочие и другие. На наши территории были присланы с СССР евреи как руководители скупки хлеба, свинины и тому подобное. Они к тюрьме попадали за злоупотреблении то есть недостачи. Попал к этой камере также парень из нашего соседнего села, котрого я хорошо знал, прозывали его "Кухта". Я очень обрадовался этой встречи, потому что был единственным, которого я знал, но после короткого разговора с ним, он мне не понравился, был какой-то другой, словно несполна разума, следовательно я не привязывал к нему большего внимания, потому что я имел уже хороших коллег, были это наши польские летчики, которые не упали духом, полны жизни и юмора, в том закалялся и я.
В камере возникли словно две группы. К первой группе принадлежали белорусы, евреи и тот Кухта, а та другая группа, к которой и я зачелся это профессора, летчики и те все, которые Польшу любили. Между группами часто возникали споры, потому что евреи, поддерживаемые белорусами, атаковали Польшу, нам это не нравилось, следовательно мы становились в защиту.
Однажды по этому поводу дошло даже к драке между мной и Кухтой. А было это так: все мы лежим на полу, каждый на своем месте (когда лежали то было очень тесно), так что нельзя было пройти к туалету, который был возле дверяй. Кухта лежа возле своих компаньонов все время наговаривал на Польшу, в конечном итоге прицепляется ко мне, говоря: "Ооо, это тот польский патриот, он любит Польшу, он с мером на мотоцикле ездил", лежал так и все время плел. В то время захотелось мне пойти в туалет и я должен был переходить у его ног, следовательно как я дошел до него, то он толкнул меня ногой, не имея места, я упал на лежащих людей, но быстро втал и сел на него, толча его коленями по лицу, я царапал и бил его без жалости, я разрывал ему морду, в определенном моменте он поймал зубами мой палец и укусил так, что полилась кровь, даже до этого дня остался на этом пальце след. Евреи, видя, что я бью их компаньона хотели ему прийти на помощью, но мои компаньоны летчики не допустили этого, сказали, что нельзя вмешиваться, следовательно я вышел почти победно, мои ребята смеялись с того. На этот шум в камере влитело три караульных спрашивая, что здесь творитсо. Кухта бросил, в то время во мне ботинком, следовательно я ответил, показывая им окровавленный палец, что он бьется. Тогда они Кухту забрали на коридор и еще ему прибавили. Позже Кухта уже больше меня не задевал. Была то первая в моей жизни драка, потому что раньше никогда с никем не бился.
Так и проходило время в камере, утром подём и сразу выводили нас в туалет, было там 6 дыр, следовательно мы садимся один возле другого как гуси, остальные стоят и ждут в очереди, а другие мылись потому что была вода в кране. После этой косметики был завтрак, 600 г хлеба, "кипяток" или "чай", иногда случалось, что давали по кусочку сахара. После завтрака был призыв, а после призыва 10- минутный перерыв на прогулку. На прогулке ходили двойками, одна двойка за другой, заложенные руки на зад и нельзя было разговаривать. После прогулки одни сидя, другие лежа слушали рассказы или лекции наших профессоров или философов. Потом завязывались дискуссии, но какие бы не были эти дискуссии но всегда на тему еды, потому что то было наилучшим и самым дорогим. В конечном итоге обед - тарелка так называемого супа, если это был крупник, то мы были очень довольны, а когда был капустник, то было сетования огромное количество. Выпивалось этот суп и дальше ждалось на ужин. В роли ужина выступал похожий суп, но только по пол тарелке. Время от времени, кто имел у них сложные деньги или присланное из дома то мог записаться на покупку хлеба и махорки. Покупали люди много хлеба, даже по 25 кг, остальной хлеб давался в мешок и за окно. Окна были обиты фанерой, через них было видно только небо. Как покупался хлеб то уже была жизнь, елось сколько хотелось. Один белорус съел сразу 5 кг хлеба - правда, что его позже очень изжога мучила, что не мог себе этот Лабучь (так его звали) места найти, но он ничего не мог поделать только ел дальше.
*****
В камере №26 я сидел от другой половины ноября до первых дней мая, пока определенного вечера несколько лиц из нашей камеры, в том числе и я, забрали и отвели к бане, там мы застали людей из других камер, так, что было нас вместе 22 человека, мы разговаривали между собой что теперь с нами сделают, на что никто не имел ответа. В конечном итоге вызывают нас по 6 человек к другому помещению. При печи стоит энкаведист, а на печи имел разложенные какие-то бумаги. Спрашивает по очереди нашы фамилии, мы подаем, он находит и дает нам карточки к подписанию и каждого извещает: "Ты осужден на 5 лет, 8 лет или 10 лет лагеря". Я подхожу и подаю свою фамилию, он дает к подписанию карточку, извещая меня, что я осужден на 8 лет рабоче-исправительного лагеря. Я спрашиваю, за что это наказание, ответ звучит таков: "Ты сам знаешь"! За что, я спрашиваю, потому что откуда я могу знать. Я говорю, что я не знаю за что и не подписываю. Отвечает: "ты можешь не подписывать, а мы напишем что ты отказался от подписи и так тебе это ничего не поможет, поскольку "специальное совещание" решило". В то время кто-то из наших товарищей сказал: "Подпиши! Не торгуйся, правду он говорит, что все равно или ты подпишешь или нет". Следовательно я взял перо и подписал.
Когда уже всех устроили, то начали разводить нас к разным камерам, то есть к камерам для осужденных. Я снова попал в камере в подвале, было нас сорок человек, здесь с точки зрения продовольствия было намного лучше, потому что хлеба мы получали 750 г, суп достаточно вкусный и было его больше, а также многие получали передачки (в следственных камерах передачки не допускались). Так что с точки зрения еды было уже намного лучше, только было очень тесно. И так мы сидели до 24 VI 1941 г.
Утром 24 VI, когда нас вывели к уборной, мы увидели к нашему удивлению, что все имеют при себе противогазы. Что это может быть? Мы задавали себе вопросы, может какое-то учение, а может война? — шутили между собой. Мы получили обед раньше чем обычно и такой же, как обычно и еще не все успели его съесть, когда открываются двери и караульные извещает, чтобы собраться с вещами и то очень быстро, потому что кто не успеет, тот пойдет так как стоит. За минуту раскрываются двери и выводят нас на тюремный двор, и здесь мы видим, что все заключённые собраны на этом дворе. Спрашиваем, что здесь происходит, но никто не может нам ответить. Вскоре мы слышим, как громко несколько раз вычитывают одни и те самые фамилии, и мы видим как прочтённые, которые вышли, были выведены за ворота, а потом слышим выстрелы. А было вот как: поспешно, ошибочно выпустили на этот дворик людей, которые должны были быть расстреляны и те, которые отозвались, то были выведены за ворота и расстреляны (о тех, что не отозвались, будет речь позже), а нас всех уставили рядами по пять человек, открыли ворота и велели выходить на улицу.
Там уже ждал нас очень сильно вооруженный конвой, имели они винтовки со штыками и пистолеты. Конная милиция и с собаками, так было их много, что с одной и с другой стороны мы были обставлены, каждые 2 метра один конвой возле другого. И так вели нас в направлении востока Как мы проходили улицами Старой Вилейки, было нам очень досадно смотреть на тех, что плакали на наше прощание, наших польских детей и женщин, рвущих волосы на собственных головах.
Мы были, как окаменелые, шаг за шагом мы двигались на восток, мы шли достаточно медленно, потому что были между нами старые люди, слабые, больные и даже без ноги, с костылем. По дороге проезжали возле нас автомобили, загруженные людьми, на дороге стояли или лежали покинутые военные автомобили, а солдаты поодиночке то здесь, то там убегали в переполохе. Время от времени пролетали над нами самолеты. Мы не знали, что происходит. С большой грустью и грузом на душе чувствовали мы себя, когда приближались, к старой польско-советской границе. Солнце было уже низко и выглядело так, словно хотело плакать вместе с нами, и небо затянулось красным цветом. Когда мы приблизились до двух последних домиков, стоячих на возвышенности по левой стороне дороги, выбежала женщина с двумя девочками, одна около семи лет, а другая около десяти лет, бежали с плачем и звали: „Папочка! Папочка!” А женщина, плача, рвала на голове волосы, выкрикивая: „Отпустите его, он ни в чём не виновен, куда вы его гоните”, но конвоиры отгоняли ее и дети, отталкивая, кричали: "уходи сука", а позже приехал конный милиционер и конем наезжал на неё и таким образом отогнал ее, а они кричали: "Отдайте нам нашего папочку, отдайте!" Нам так сердца разрывались, так нам было трудно, но вопреки этому мы отдалялись каждый раз все дальше и дальше, и плач все меньше было слышно.
Мы приближались к лесным зарослям, были также громадные ланы пшенице, и уже темнело, один убежал, началась стрельба, удалось ему или нет, или его убили, мы не знали, а нас гнали дальше и дальше. Ночью дали нам немного отдохнуть в придорожных рвах, а позже снова мы шли, а за нами ехало несколько подвод, которые везли пулеметы и тех, которые не могли дальше идти.
Утром, когда уже было светло, мы сориентировались, что мы находимся по советской стороне, потому что мы заметили колхозные поля, а вскоре и сам колхоз. В колхозе мы отдохнули, колхозникам было велено носить для нас воду. Воду носили женщины, а дети присматривались к нам словно какому-то зрелищу. Атмосфера была уже полностью другая, чем по ту сторону границы. Мы напились воды и дальше в дорогу, но мы не отошли далеко, когда мы услышали ворчанье двигателей и заметили самолет, который летел. Приказали нам: „Ложись!”, следовательно мы упали по средине дороги, а самолет в то время приземлился неподалеку от нас. Был то советский биплан. Многих энкаведисты побежали к этому самолету, а в то время с запада мы услышали мощное ворчанье самолетов, которые летели в нашем направлении. Мы получили приказ лежать, не двигаться с места, потому что будут стрелять. В то время два немецких самолета сбрасывали на нас бомбы, был ужасный свист и взрывы. Сбросили 9 бомб, по наших, видимо, не попали, только из конвоя были убиты и ранены.
Во время бомбардировки подводы убежали, и я не знаю, где подевалась милиция с конями, а мы получили приказ: "Встать!" и уже не дорогой, а полями бежали мы в направлении леса. Кто имел какой-то узелок при себе, бросал, его, потому что не имел сил дальше его нести, а кто не имел сил бежать, то его били и толкали, а когда уже падал, то застреливали или убивали штыком. На этом колхозном поле, между дорогой и лесом остались все наши узелки, все старики, инвалиды и больные, остались там на века. Мы, более сильные добежали до леса окружённые конвоем и отдохнули там несколько часов, потом в дорогу лесом, снова во второй раз подлетели немецкие самолеты и стреляли из пулеметов, только ветки падали на нас, а конвоиры за нами проверяли каждый куст, чтобы порой никто живым не остался в лесу. Если кого-то находили спрятанным, то сразу убивали его штыком. В тюрьме в Рязани мы подсчитали, что всех эвакуированных заключенных из Старой Вилейки, должно было быть от 1600 до 2000, а убитых и добитых около 400 - 1600 человек, но подробного числа никто из нас не знал, только те, что нас гнались.
И так гнали нас полевыми дорожками от леса и до леса Люди падали от голода, усталости и полного истощения, а как уже кто-то падал, то было известно, что будет убит штыком. Было жарко, душно, хотелось пить, я видел как один пил свою мочу. Как порой проходили мы около какой-то лужи и хотели напиться, то стреляли и отгоняли нас. Было очень жарко и с каждым разом было всё тяжелее, мы сбрасывали из себя, что только далось, некоторые шли только в кальсонах и босиком. Я также сбросил из себя свой любимый польский военный мундир и очень было мне его жалко, потому что я считал этот мундир реликвией Польши, но ботинков не снял, потому что я посчитал, что если пораню и ноги, то со мной будет покончено.
И так гнали нас весь день, ночью 25 июня мы видели, как сгорал Минск, который был по правой стороне. Дальше мы двигались к Борисову, мы были очень замучены и голодны, а также очень мучила жажда. Мы проходили через высокий мост, а внизу видно было воду, следовательно из этого моста люди бросались в воду, чтобы совершить самоубийство и укоротить свои страдания, желали скорее утонуть чем погибнуть от штыка Стреляли в них в воде, а нам во время перехода говорили держаться за руки, и крепко друг друга держать и предупредили нас, что если кто-то из пятерки кинется к воде, то целую пятерку застрелят. Следовательно держась вместе мы шли дальше.
26 июня мы были около 30 - 40 от Борисова, как вдруг началась сильная буря вместе с сильным ливнем. Прежде всего, говорили нам лечь на дороге, но военные автомобили уже ехали на запад, нужно было освободить дорогу, тогда велели нам проползти ко рву. Когда мы легли в придорожных рвах, начала заливать нас вода, мы пробовали вылезть изо рва, тогда конвой начал стрелять над нашими головами, а было то в лесу. В то время один учитель не выдержал и быстро выскочил изо рва на высокий откос и громко закричал: "Убегайте, потому что они нас всех перебьют!", но в тот же момент прозвучали выстрелы и он упал, а они взяли и волокли его, обзывая: "Вот польская собака, еще агитирует". До тех пор пока падал дождь, и пока не опустилась изо рва вода, то мы плавали в нем, а позже позволили нам вылезти. Мы были грязные от болота и полностью мокрые, мы дрожали от холода, но шли дальше. Через некоторое время начали приезжать из Борисова автомобили, которые забирали нас и отвозили. Я имел „счастье” приехать последним автомобилем.
В Борисове, а было то 26 июня, впервые за три дня мы получили по два сухаря, и по три конфеты "Камушки", ну и немного воды. До вечера мы сидели в каком то сарае. Были налеты, бросали бомбы, стреляла зенитная артиллерия, вечером загрузили нас в вагон — мы уложились как селёдка, друг возле друга. Ночью шел дождь, стало холодно, а здесь люди, легко одетые или даже полуголый, звенели зубами и прислонялись друг к другу и так дождались мы утра, позже поезд тронулся и мы поехали.
Мы проезжали через Оршу, Смоленск, Вязьму, видели там опрокинутые вагоны, и убитых людей, мы ехали дальше. Я не знаю, на какой станции перегнали нас в скотские вагоны. Там нам было лучше, потому что была крыша над головой и было тепло, а также ежедневно мы получали по нескольку сухарей, а иногда даже по кусочку сахара или кусочке соленой рыбы, воды и дальше давали мало, но к счастью падал дождь, и тот, кто имел рубашку, то отрывали снизу поясок, крутили с этого шнурки и выбрасывали на крышу вагона, по этому шнурку к горшку стекала вода и так мы делили эту воду между собой. Мы проезжали берегом Москвы к Рязани.
В Рязани разгрузили нас в автозаками (машина в которой перевозят заключенных)
перевезли к тюрьме. Там сразу пошли мы в баню. Прежде
всего, была дезинфекция, то есть машинкой стригли волосы на голове, кто был
заросший, на бороде и внизу. Позже купание, а после купания выдавали чистые
майки и штаны и отводили в тюремную камеру. Там были новые матрасы из ваты и
полый горшок подготовленной воды, следовательно мы пили без ограничения, и
караульный приносил и доливал, а как легли спать казалось так хорошо, так
удобно, хоть лежало нас двое на одном матрасе.
Утром подъем, туалет, завтрак: 450 граммов хлеба, зерновой кофе, кусочек сахара,
позже призыв к камерам, потом 10-минутная прогулка на прогулочной площадке ну и
возвращение по камерам. В камере рассказ и дискуссии или отдых. Обед - суп и
немного каши, но обед лучше, чем в Старой Вилейке, ну, а на ужин пол-литра очень
густого супа с круп.
Караульные были намного лучше, чем в Старой Вилейке, неоднократно открывали двери нашей камеры и долго разговаривали с нами, даже время от времени, как нас выпускали в уборную, то на коридоре бросали куски газет, из которых мы могли что-то узнать, что слышно на свете, но больше всего успокоило нас, как нашли кусок газеты, а там было написано, что генерал Сикорский заключил договоренность в Москве о выпуске поляков и организации польской армии.
Мы очень радовались, но пока что с нами ничего не делают, начало нас это раздражать, почему не освобождают, поскольку такая договоренность составлена?
Пока одной ночью мы услышали на коридоре какой-то шорох, какое- то хождение и разговоры, мы прислушиваемся внимательно, и тут открываются двери, и нам приказывают: "Встать! Выходить на коридор". Тут стояли столы, за столами сидит начальство, мы подходим к этим столам, где вписывают все наши данные, но ничего нам не сказали, но наш философ утверждал, что август что-то принесет, что август есть особенно важным для Польши, следовательно и для поляков также, и даже это обосновывал.
Мы ждем, наконец то забрали от нас нескольких ребят, через некоторое время снова забрали и позже от этих парней мы узнали, что когда забирают из камер, то ведут в НКВД и там очень вежливо извещают, что освобожден и направлен в город Бузулук Оренбургской области, там будет организована польская армия.
Ежедневно было нас все меньше, в конце согнали нас всех в одну камеру, и
осталось нас уже только 12. В конечном итоге перевели нас в камеру, где сидели
россияне. Мы нервничали, спрашивали, почему нас не пускают, отвечали: "Не было
приказа".
В конце начались на Рязань налеты и в конце октября загрузили нас в вагон,
которыми перевозят мясо, эти вагоны без окон, в крыше находились два
вентилятора, но были закрыты, а на полу были деревянные решетки. На них мы
лежали очень тесно. На верху светила коптилка, то есть нефтяная лампа без
стекла, которая через определенное время угасла. Мы имели все меньше кислорода и
начали задыхаться, толкли в стены вагона, но никто этого не слышал. В конце
концов, кто-то вырвал какой-то крюк, и мы начали им ковырять в вагоне дыру. Была
бы это очень тяжелая смерть через удушение, мы прижимались к полу, но немного
эго помогало. С каждой сеідидой было тяжелее и опаснее. Наконец на наши крики
сбежались конвоиры и начали на нас кричать, грозя, что если, мы не успокоимся то
"будем стрелять", на что мы крикнули: "Воздуха дайте" и только тогда они открыли
вентиляторы.
Во время транспортировки мы получали одну буханку, то есть около 1200 г. хлеба на три дня. Съедалось это всё за один раз, потому что если бы не съедалось, то и так "блатные" отобрали бы, потому что было многие этих уголовников и бандитов. Соленую рыбу давали ежедневно, вода было нехватка, как дали 1 ведро на 100 человек, то тот, который был ближе, горстью или шапкой хватал, сколько мог, и остальные умирали с жажды и грязи. Вместо туалета стояло ведро, в котором даже за один раз на 100 человек не помещалось все, потому мочились мы на двери. Еще пока мы ехали в Урал, то немного этой мочи вытекало через двери, а за Уралом замерзло, и это все было под решетками. Была ужасная вонь, люди болели на кровавый пронос и умирали.
В такой ситуации мы ехали 22 дня от Рязани до Мариинска. В дороге около Челябинска и я заболел на этот кровавый пронос и уже не ел своего хлеба, ни этой рыбы, съедали за меня друзья, которые лежали с одной и с другой стороны. В конечном итоге мы приехали к Мариинска, из вагона сам выйти уже не мог - коллеги, которые съедали мой хлеб, взяли меня под руки и вывели, а потом перетащили к тюрьме.
В тюрьме направили нас в баню. Тут в первую очередь парикмахер: парикмахером была женщина лет около 35, стоял возле неё табурет. Мы в наряде Адама по очереди подходим, становимся на табурет, а она машинкой стригла нам эти места, где были волосы, иногда говорила придерживать себе рукой или сама придерживала для облегчения стрижки. Когда я разделся и увидел самого себя, то очень испугался, потому что увидел свой скелет. Кости я имел обтянуты седой кожей, а ноги, какие при тазе, такие и при стопах, одинаковой толщины. Я был готов к смерти, потому что ведь известно: 8 лет лагеря, а я уже почти труп. Я не боялся смерти, только очень не хотелось умирать на чужбине, я скучал по семье и за отчизной, которая осталась так далеко, разодранная надвое через гитлеровцев и стланцев.
Первую ночь я переночевал в этой тюрьме, утром я зарегистрировался к врачу, который сразу направил меня в камеру больных. Там также лежали мы на полу, но каждый на отдельном своем матрасе. Было нас тут 12, но по каждой ночи оставалось с 12 шесть или четыре живых, трупов забирали, и приводили новых больных. Есть давали сухари из черного хлеба и очень редкий супчик с овса или проса. А лекарства... лекарство здесь было одно, так называемая по-русски марганцовка, это вроде что-то такое дезинфекционное. К счастью я начал приходить к здоровью. После того как я выздоровел, перевели меня в прежнюю камеру, из которой я пошел.
*****
В Мариинску не был я долго, от половины ноября до конца января. В январе 1942 г. загрузили нас в вагон и вывезли в Суслова. Позже посадили нас на несколько автомобилей, на головы бросили брезент и привезли к лагерю Суслова. Был это земледельческий лагерь, имел 4 лагерные пункты, я был в 1. Это была большая территория, огороженная в два ряда колючим проводом, между проводами было распахано и забороновано, потому что были видимые следы в случае побега. Вокруг стояли вышки, а на вышках вооруженные караульные. Дополнительно по земле были проведены провода, к которым были привязаны собаки таким образом, чтобы могли бегать вдоль этого ограждения. Эта зона называлась подконвойной, где стояли густо установленные бараки, в том числе кухня и больница. Другая изгородь, так называемая без конвойная зона, где заключенные ходили работать без конвоя. В той без конвойной зоне, сразу за проводами, недалеко больницы стояли здания, где были свиньи, там работали преимущественно молодые женщины, но об этом позже. Следовательно, в конце января привезли нас в этот лагерь и сразу, как обычно, отвели нас в баню и как известно санобработка, позже теплое купание, но к сожалению по теплому купанию отвели нас к холодному бараку на карантин. Был то барак номера 10, большой и высокий, еще не законченный, осенью, очевидно помешали снега и морозы. Мы входим в этот барак, а здесь на стенах снег. Были две печи и немного мокрого торфа, начали разжигать, но известно из торфа, в дополнении мокрого, тепла столько, как возле самой печи, а снег как был на стенах, так и остался. К печи подойти не можно было, потому что при нем сидели сами уголовники и бандиты, так называемые "блатные", которые были осуждены за злодейство и убийство на 15-25 лет. "Блатные" или "урки", как их называли, это был ужасный кошмар для некриминальных заключенных. Все их боялись, даже караульные, потому что, что мешало убить человека такому, который был, осужденный за убийство на 25 лет. Такие уголовники "высокого ранга" жили в лагерях очень хорошо, на работу не ходили, имели своих подданных "урков", которые на их приказ грабили других заключённых. Если увидели у кого-то новые ботинки или одежду, то под угрозами забирали, а если кто оказывал сопротивление и не хотел отдать, то его сильно избивали и силой забирали. Такой вожак "блатных" ходил хорошо одетым, еду также ему приносили из кухни и то хорошую, потому что ведь повара также боялись "блатных". Когда-то прибыла в лагерь новая партия эстонцев, были они хорошо одеты, следовательно группа "урков" ворвалась к ним в барак и начала по очереди каждого обыскивать и забирать одежду, ботинки и тому подобное, эстонцы не выдержали и целым бараком кинулись на них, даже не подозревая, какие будут потом последствия. Очень "урков" побили, а одного заживо впихнули в пылающую печь. Но за то позже, как "урки" ловили где- нибудь эстонца, то так били, что часто ломали ему руки или ноги. Следовательно нужно было их бояться. Я был вынужден, находится подальше от них, одетый только в штаны, саперские ботинки и кофту, так называемую русскую гимнастёрку. Эту кофту я получил от старого царского офицера, который очень меня любил, непрерывно мне говорил, что я напоминаю ему его собственного сына. Имел он сеновал и теплое одеяло, так, что брал меня к себе спать, или спали посменно, но каждый раз нужно было мерзнуть. Еда также была плохой, даже хуже, чем в тюрьме, ведь я был истощен по перевозке и этой болезни, а здесь в дополнении еще и холодно. Начали мне пухнуть ноги-и появляться язвы.
К врачу не пускали, потому что был карантин, потому к нам ежедневно приходил фельдшер Быстролёгов, он забрал меня в амбулатории, а здесь врач Волкова направила меня к бараку мало сильных. Был это полу-барак полу-больница. Еду мы получали из больничной кухни, но спали на нарах. В бараке было тепло. Я там находился целую зиму. Приходила к нам на исследования доктор Волкова. Добрая была женщина, имела большое сердце, потому что лекарств почти совсем не было, а если что-то нашлось, то нужно было дать тем, кто были в больнице в палате тяжёлого состояния, случалось, что иногда кто-то оттуда еще выходил. Доктор Волкова была россиянкой, но имела ко мне большую симпатию, говорила неоднократно ко мне: "Наши, то уже наши, но за что тебе бедного иностранца здесь мучаются". Говорила: "Наши забрали их родину".
Когда уже я окреп, и обогрело меня весеннее солнце, то доктор Волкова выписала меня к бараку с неработающими, здесь также было тепло, этот был барак №6. Старостой барака был заключенный с одной рукой и с фамилией Нечепуренко, он очень бил находящихся людей в этом бараке. Однажды меня тоже без причины, как толкнет, то едва не разбился об стену. Я также очень его боялся и избегал с ним контактов. На протяжении всего времени я сидел или лежал на нарах.
По-соседству со мной спало два россияна, были это старшие люди. Приходили они всегда поздно спать, следовательно однажды я спросил их, что они делают весь день, а они ответили мне, что работают в кухне при чистки картофеля и советовали мне, чтобы и я нашел себе какое-то занятие. Говорили мне: "Ты лагерной жизни не знаешь, как будешь так лежать на этих нарах, то умрешь, даже завтра иди и поищи себе занятия, чтобы ты мог получить себе что-то съесть"
Воодушевленный я не мог дождаться утра и после завтрака отправился в поисках работы, прихожу в общую кухню, но здесь заметил меня кухонный сторож, был это высокий чеченец в кожухе и лохматой большой шапке, с палкой, кричал "куда, куда". Я говорю, что я хочу работать, но он угрожая мне палкой кричит "не надо, не надо". Что же, разочарованный я возвращаюсь к бараку и думаю: ну что же, я умру, но всегда я ценил жизнь, хоть наихудшее, я хотел жить. Я не сдался и подумал себе: а может удастся, может примут меня на кухню в больнице? Невзирая на сомнение, я собрался и пошел. Я прихожу на кухню и вижу моих старичков, как сидят и чистят картофель, и спрашиваю их об управляющего. Он приходит и говорю ему, что я хотел бы работать. Я объяснял как мог, потому что по-русски еще я не умел, но он меня понял и сказал, что не нужно помощников, их пока хватает.
В то время к нашему разговору прислушался шеф-повар, вышел из другого помещения
и заговорил ко мне по-польски, спрашивал, откуда я и как давно здесь нахожусь, в
конце сказал: хоть мне людей не нужно, но завтра ты можешь прийти, работу тебе я
найду.
Довольный я вернулся к бараку, а ночью я не мог заснуть из-за впечатления, я не
мог дождаться утра, чтобы уже как можно скорее пойти на кухню. Утром я пошел на
работу, велели мне чистить
картофель, который был очень мелким, и сваренным в кожуре. Я
как чистил эти картофелины, то очищенные бросал в миску, а в кожуре ел, потому
что жалко мне было есть эти чищенные, потому что я хотел показать, что я
работаю, а не я съедаю. Все равно, в кожуре или чищенные, я радовался, что могу
и такое есть. Вскоре был уже готовый обед. Когда уже больные получили свои
порции, шеф накормил и нас. Насыпал нам большие миски, вроде двухлитровой
емкости, густого супа, позже пол миски каши с соусом, это в мгновение всё
съедалось, но хотелось бы еще, но шеф говорил, что больше не даст, потому что я
могу треснуть. Не было меры в еде, непрерывно бы только елось и елось, но со
временем елось все меньше.
Шефа называли Сашей, потому что звали его Александр. Был он очень добрым человеком, любил честную работу, потому что сам был честен. Не любил злодейства, и тут одной ночью поймал ночного повара на краже и выгнал его с работы, на его место ночного повара назначил меня, я боялся, но он сказал: „Если не будешь чего то уметь, то разбудишь меня, я тебе объясню”, но никогда его я не будил, сам справлялся.
Через месяц сделался из меня толстун, мой скелет покрылся пышным розовым телом. Я был симпатичным парнем, как одел белоснежный поварской китель и на голову белую шапочку и стал в открытом окне, которое находилось напротив свинарника за проводами, где работали женщины, то те женщины очень мной восхищались. Было мне в то время 20 лет, мне также хотелось посмотреть на этих существ другого пола, не с точки зрения сексуального, но просто человек нуждался в их присутствии ежедневно, так как в воздухе, потому что ведь уже миновали 2 года, как почти женщин не видел. Всегда в свободных минутах от занятий я садился при этом окне и смотрел в их направлении, я констатировал тогда, что мир без женщин очень мрачный и ничего не стоящий, что не мог бы существовать без женщин.
Через некоторое время приходила к нам с того лагеря молодая девушка, руководительница сан-епиду. Я заметил, что нравлюсь ей, но я был очень несмел, а во-вторых одичал за этих 2 года неволи, я боялся ей даже коснуться, считал ее святой, потому что была единственной, которая время от времени могла находиться между мужчинами.
Немного позже я получил повышение на самостоятельного повара, на общей кухне были отделены два котла и там я варил для больных, потому что больничная кухня не была способна варить на большее количество. В то время было мне уже очень хорошо, только была нехватка свободы и нормальной жизни.
Но это хорошо длилось только до осени 1942 г. Осенью забрали на этап всех иностранцев к ЛУР, то есть Лагерь Усиленного Режима. Не помогли заботы моей опекунши, а даже руководительницы санчасти, то есть руководительницы санитарного отдела, хотели они меня любой ценой оставить, потому что видели во мне честного и нужного им человека, хотели меня они защитить от худшей судьбы, которая могла меня встретить.
Следовательно, перебросили нас в другой лагерь. Был это лагерь также земледельческий, также имел 4 лагерь-пункты и находился в горах. Называют этот лагерь Кожух. Был там лесоповал, я попал в 4 лагерь-пункт, звался этот лагерь село Новая Ивановка. После нашего прибытия я был назначен к бригаде Банбера, эта бригада выполняла самую тяжелую работу, ежедневно два вооруженных часовых выводило нас на работу 7 км от лагеря, там мы строили на реке плотину.
Мы ковали кирками мерзлую на 2 метра землю и тачками возили и засыпали реку. Должна была там быть каменная водная мельница. На эти работы мы ходили целую зиму, а весной как лед растаял, то все что мы насыпали, вода размыла и так выглядела наша тяжелая и трудная работа.
В этих тяжелейших условиях, из-за этого кропотливого труда мы очень ослабели, я в дополнении отморозил нос, который совсем не хотел заживать, я выглядел ужасно, думал, что уже останусь без носа. Условия мы имели здесь ужасные. Наш барак был дыряв, было нам очень холодно, почти никто не имел постели, в том, в чем ходили, в том и ложилось спать. Люди умирали от голода и переутомления. Еда была плохой. Утром мы получали пол-литра что- то на подобии супа, я так говорю, потому что того нельзя было супом назвать. После этой еде весь день на морозе, нужно было пройти по снегу к работе 7 км, туда и обратно, работать при кирке и тачке. Вечером мы получали ужин с обедом и немного хлеба. Это все съедалось за один раз и совсем этого не чувствовалось.
Утром после подъёма, как замечали, что лежащий коллега сбоку мертв, то не сообщалось об этом, потому что еще на него можно было получить суп. Как все выходили на работу, а умерший лежал, то получал от вахтёров палкой. Вахтёры рекрутировались из уголовников, вооруженные палками ходили по баракам и выгоняли людей к работе. Как в барак прибежали вахтёры и увидели лежащего на нарах человека, то прежде всего избивали его крича: "Вставай", а как не вставал, то за ногу сбрасывали с нар на землю, а если еще едва дышал, то ему прибавляли и выгоняли к воротам, а отсюда к работе, как заметят, что уже мертв, то говорят: "Подох".
Пришла весна 1943 г., в наш лагерь прислали врача, моего знакомого из предыдущего лагеря. Он нам всем делал медосмотры, следовательно и наша бригада проходила этот осмотр. Раздетые по пояс мы стояли в очереди, каждый подавал свою фамилию, когда я подал свою, врач обратил на меня особое внимание, попросил повторить и говорит: "Эта фамилия мне знакома, а может вы были в Суслове?' Я отвечаю: "Да, это я". "Ой! Что с тобой случилось?!" - воскликнул. Я сказал: "Ну, видите, доктор".
На следующий день я уже не пошел на тяжелую работу, был переведён в другой барак, в бригаду не работающих. Там я отдыхал, нос медленно заживал. Имея жизненный опыт я вертелся около кухни. Я познакомился с китайцем, который был ночным поваром на общей кухни, следовательно приходил ночью туда работать. Именно в то время был весенний забой свиней, мясо шло на фронт, кишки, уши и ноги давали кухне, нужно было показать умение и честность, чтобы выполнять эту защитную функцию при опалке ножек и ушей, при разделывании и мойке внутренностей. Я делал это хорошо и честно, а китайцы обычно любят честных людей, следовательно опять мое существование улучшилось, уже не голодал, в бараке было тепло, имел постель и тяжело не работал. Через некоторое время увеличили больничную кухню, и нужен был повар, по рекомендациям китайца я был принят на повара. Шеф-поваром был венгр. Старший повар - поляк Адам, старый человек, когда-то он был поваром в государстве Радзивиллов, я второй поляк и один россиянин и один болгарин. Работалось там хорошо до весны 1944 г.
И тут мгновенно неудача захотела, чтобы были осуществляемы работы при постройки барака. Я был самым молодым, поэтому был выслан на эту роботу и уже больше к кухне меня не допустили, сказали, что там пусть себе повара выберут помощников из числа больных, а я был направлен в бригаду плотников, и снова началась голодовка, тяжелая работа и слабость. На этой стройки я работал несколько месяцев, потом был переведён в другую бригаду. Бригадиром был румын Бойко, знал он немного польский язык, но мне это никак не помогло, потому что был он человеком, не очень добрым, бил людей и требовал трепетной работы.
В этой бригаде был один поляк, звался Стефан Кревски. Мы с ним дружили, всю зиму мы переделывали и ремонтировали офисы вне лагеря для высших лагерных властей. Позже мы ремонтировали свинарники, там уже была жизнь, потому что всегда мы получали от работников свинарника либо картофель, либо кашу, которую варили для свиней и поросят. В мае 1945 г. мы ходили 12 км к ремонту стайни для скота, там также нам было хорошо, потому что иногда удавалось украсть овсяной дроби из корыта, которую ели телёнке, и с того варилась каша хоть и с кожурой, но очень нам нравилась. Только хуже было, когда человек ходил по нужде, то чувствовалось сильное покалывание в прямой кишке, а как уже выдавливалось, то выглядело так, как сильно спрессованный шарик соломенной сечки.
9 мая 1945 г. утром как всех выгнали к воротам, прежде чем начали распределять к работе, объявили нам, что война уже закончилась, что Советский Союз разбил врага и вынудил к безусловной капитуляции. Некоторые восприняли это сообщение с большим энтузиазмом, другие безразлично, потому что устали уже от советских тюрем и лагерей. Мы прибыли на работу и как всегда первым делом проверили корыта, кому повезло, тот нашел немного не доеденной теленком овсянки. Мы решили это сварить, но приехал конный гонец, извещая, чтобы нас немедленно привели в лагерь, потому что сегодня будет выходной и будет говорить начальник лагеря. Нужно было нашу добычу оставить, тяжелее всего было оставлять эту не доваренную овсянку.
Когда мы пришли в лагерь, мы увидели столы, накрытые красным полотном, а на столбах висели портреты Ленина и Сталина, за столами сидело начальство, и вскоре началась речь. Говорили много, о том, как Советский Союз победил врага, говорили, что многие будут освобожденных из лагерей, ну и так далее. Но на следующий день началась нормальная работа, и с каждым днем я чувствовал себя слабее, я обратился к врачу, который дал мне 2 месяца слабо силки, то есть, чтобы не работать, а порцию еды получать такую, как работающий.
Очень много помогали мне врачи, своей жизнью я обязан, прежде всего Богу и советским врачам. С врачами я был знаком, во- первых через кухню, а во-вторых, потому что я был спокойным парнем и хорошо воспитанным, и к тому же еще и иностранцем. Очень меня любили и помогали, чтобы я пережил эту недолю, потому и приписывали мне разные болезни, которыми я никогда не болел, и это спасало меня перед вывозом на север или Колыму, там, где вечные морозы и 10 месяцев зимы.
Очень благодарен врачам, что я пережил, потому что если бы не они, то мои кости также бы скитались по берегам реки Кия, как это скитались сотни тысяч других людей. Недалеко лагеря было кладбище, там хоронили умерших. Зимой земля замерзала до 2 метров, а на рытье ям всегда выгоняли либо больных, либо бездельников, которые в этой замёрзшей земле выкапывали ямку на 50-60 см глубины, а покойников привозили 12-19, высыплют из большой корзины, как древесину и этими глыбами закинут, а сверху прикинут снегом и называется, похоронили. А когда придет весна, снег растает, то везде торчат рука или ноги покойников, и собаки растягивают эти кости, а сороки обклёвывает оставшиеся остатки.
Во время моего пребывания на отдыхе вызывает меня к себе начальник так
называемого делового двора. Была это территория возле берега реки Кия, на
которой были построены мастерские по переработки древесины, потому что рекой
древесина приплывало из Кожуха, а здесь её вылавливали и вытягивали на берег.
Тут работало около 200 человек. Была кузница, швейная мастерская, кирпичный
завод, печь к топке смолы, печь для сушки досок и прачечная, в которой работали
3 женщины. Одна венгерка, одна татарка и руководительница румынка, достаточно
симпатичная и наглая.
Ну и конечно была кухня, следовательно начальник предложил мне, чтобы я стал
шефом кухни. Там готовились только обеды. Говорит мне: „Ты молодой и честный, мы
даем тебе хорошую работу, потому что предыдущий повар обворовывал кухню, а люди
ходят голодными, следовательно ты должен будешь навести порядок, а если будут
трудности, то обращайся ко мне, я тебе помогу”. Я с радостью согласился, хоть
знал, что не будет это легко, поскольку там были научены, что из кухни по
стороне можно было получить все. Как только начел работать, то приходил один
блатной за мясом, другой за селёдкой, но решительно провел им инструктаж, что у
меня ничего не получат, правда, угрожали мне, но я не обращал на это внимание. С
каждым днем я начал варить все лучше, все были очень довольны, кланялись мне
издалека, а я думал себе: „Вы кланяйтесь не мне, а моему казану, в котором я
варю”.
Обеды я варил вкусные потому, что имел очень хорошего доставщика, который возил мне на кухню товар, называли его Лука, а был добрым потому, что я умел с ним жить. Когда получал товар на кухню, то прежде всего кормил "дядю" Луку, а он вместо 5 литров молока, привозил 30, потому что дружил с доярками, или картофеля или капусты привозил столько, сколько я просил. Все очень удивлялись, как это так, что происходит, толи я чудеса делаю, толи все размножаю, никак не могли понять что происходит, но я держал все в тайне. Работалось хорошо, я имел двух помощников, после приготовления и выдачи обедов, до вечера был свободен. В это свободное время ходил отдыхать на берег реки Кии, лежал на песке, бывало, купался в реке.
Очень смешно было с этой руководительницей прачечной, румынкой, она сама стирала для меня мои передники и шапочки, как постирала и выутюжила, то сама приносила на кухню и вынуждала меня, чтобы ее за это поцеловал. Я был очень наивным, молодым парнем и убегал, а она гналась за мной, а как поймала где- то в углу, то прижала и велела целовать, а я снова, вырываюсь и убегаю, она не пускает, "Целуй - говорит - и конец". Тогда я не имею уже выхода, слегка чмокнул ее в щеку, а она: "Так я не хочу - говорит - ты не умеешь целовать, смотри, я тебя научу" - и целует так, как следует, но я считаю это неприличным, хоть она даже мне нравилась, но я согласно своим амбициям не мог с ней навязывать более близких взаимоотношений потому, что она жила вместе со старшим от нее человеком, также румыном и я считал что она не может срывать ради меня эту дружбу.
Очень хорошо мне там было, потому что были и люди и начальство мной довольны,
что я с нечего что-то делал, но они не знали, что Лука для меня обворовывал их
хозяйство.
Осенью 1945 г. пришло распоряжение, чтобы нас перевести из нашей зоны на
предприятие сушки картофеля, было это около этого делового двора, а на наше
место привезли каторжников, осужденных на 15 - 25 лет каторжных работ, потому
поселили нас на новом месте. Я работал на своей кухне в дальнейшем. Через
некоторое время мой коллега Кревски из бригады плотников узнал, что была
привезена
сюда его сестра Тося, осужденная на 15 лет КТР, то есть каторжных тяжелых работ,
но никоим образом не мог с ней видеться.
В конце декабря того же года вызывает меня начальник нашего 4 лагерь-пункту и извещает, что необходимо меня перевести в лагерь каторжан на должность шеф-повара. Я не очень хотел идти на эту должность, отнекивался, как только мог, потому что знал, что там уже моя карьера и закончиться, потому что ведь там такого чуда я не сделаю, не будет моего дяди Луки и будет не двести человек, а несколько тысяч. Но ничего не помогло, хоть был порядочный человек из этого начальника, но приказ приказом, и должен был быть выполнен. Я начал паковать вещи к отъезду. В этот момент пришёл ко мне Стефан Кревски и принес малую передачу прося, чтобы я ее в какой-то способ передал его систре. Эта передача была тем дорога, что прислана из дома. Просил еще, чтобы Тоси рассказал все, что я знаю о нем, о Стефку. Вечером 28 декабря 1945 г. я прибыл на кухню, в которой когда-то работал, при выдачи ужинов. За окном случайно услышал голос девушки, которая говорила: "Это для бригады Кревской", тогда я больше приблизился к окошку и увидел девушку с голубыми глазами и симпатичным лицом и спросил ее, где может быть Тосю Кревски, а она ответила: "Это я". Я себе подумал, интересная девушка и я начал к ней говорить по-польски, что я друг её брата и принес от него передачу, но при окошке мы не могли дольше разговаривать, следовательно я вынес эту передачу на поле, мы пожали друг другу руки и договорились, что по мере возможности будем поддерживать связь между ней и Стефаном.
Тося была девушкой, просто обворожительной и наипрекраснейшей в целом лагере, все мужчины на неё молились, так что я не мог медлить с признанием, что в неё просто влюблен, она ответила, что также в меня влюблена. Мы ежедневно встречались взглядом и заменой нескольких слов, время от времени в бане, а также я бывал у нее в бараке, потому что я имел очень хорошего караульного, который во время своей службы в лагере впускал меня на несколько часов, а сам следил, чтобы какой-то командир не пришел. Мы безумно любили друг друга, была это первая моя любовь. Без нее я не представлял себе жизни. К сближению между нами, однако, не дошло, потому что Тося говорила, что хочет вернуться такой же, кокой вышла из дома, потому что так велела ее мать, я не мог противоречить любимой. Тося имела очень хороший почерк и писала очень хорошие стихи, один из них я процитирую:
На лет пятнадцати каторжных работ
В одиночестве и тоске
Пятнадцать долгих,
длинных лет
Лишь позже думать о возвращении
И словно мгновенно погасшее солнышко
И сумерки вокруг меня
Что же то случилось и
что будет дальше
То ли наяву или во сне
Обеспокоенные губы шепчат молитву
И я беру с повиновением крест
О Иисус смилуйся
над нами
О Христос, Христос услышь.
В марте 1946 г. мгновенно забирают меня к нашему родному лагерю, также на повара. Очень болезненным было наше прощание с Тосей, но там я работал только 2 недели и вернулся опять к больничной кухне, там, где работал господин Адам. Как грустным было наше расставание, таким радостным было наше приветствие. Тося со слезами в голубых глазах кинулась мне на шею, говоря: "Любимый, я есть теперь твоя, навсегда твоя!" и сливались ее горячие губы с моими в поцелуях, обнимались в любовном поднесении.
Наша радость долго, однако не длилась, только до конца мая 1946 г. потому что тогда выбрали самых молодых и самых здоровых девушек и вывезли на север к порту Дудзинка, куда попала и она. Оттуда прислала мне только одно письмо. Наше прощание было очень болезненное, я не видел без нее мира, не мог есть, спать ни работать, я стал как безумный, непрерывно думал только о ней. Господин Адам, видя что со мной происходит, не говорил мне ничего делать, деликатно меня от моих мыслей отрывал. Трудно было её забыть, в течение целого года не мог на женщин даже смотреть, и разговаривать с ними, хоть тоже были прекрасны, молоды и ко мне заигрывали.
В больничной кухне я работал до осени 46 г., осенью заболел руководитель общей кухни, следовательно меня, вопреки моего нежелания, перенесли на должность руководителя общей кухне и здесь начались хлопоты прежде всего с нехваткой дров. Не было чем топить, а есть людям нужно было варить. Дерево из леса і привозила бригада Урсова на шести парах быков, которые даже пустых саней не могли тянуть, привозили едва по пару зеленых палок, но за то бригаду нужно было обильно накормить. Я считал, что если привезли так мало дров, то для мотивации не накормлю, я сказал, что как привезут много дров, то хорошо их накормлю. Очень на меня рассердились и привозили, еще меньше. Работать было очень трудно, палили очень экономно, некоторые блюда нужно было готовить отдельно, потому что имели они другое предназначение, а варилось все вместе, и оставлялось на потом, из-за чего позже было подозрение, что это шло не согласно предназначению.
Именно зимой 1946 г. приехала главная комиссия по управлению сибирскими лагерями, а наш начальник лагерь-пункта уже был в Павлове Татаре, лейтенант Гамудзилов, вредный это был человек. Комиссия пришла к нам на кухню, мы были старательно подготовлены, однако прицеплялись именно к тому, что уже было сварено, а подаваться должно было быть вечером. Спрашивали: "Зачем вы варите в полдень, если должны это подавать лишь вечером?", я толковал, что делаем так только потому, что мы ужасно страдаем от нехватки дров и хоть это была чистая правда, но они не поверили и велели меня снять с кухни и перевести в наихудшую бригаду. Меня немедленно привели к нашей родной зоне и внедрили в бригаду Урсова, где велели волами возить дрова к той же кухне, в которой я был руководителем. Знали меня все, следовательно одни с меня смеялись, другие жалели, бригадир Урсов был для меня, как волк для овцы. Я работал там недолго, с помощью врача я начал работать в бане, дезинфицировал одежду, было здесь уже намного лучше. Позже я достался к деловому двору, в то время был здесь уже другой руководитель, мой коллега из бригады плотников. Румын хотел меня снова устроить на кухню, даже Любов Мироновна старалась помочь в санитарном отделе, была по этому поводу у начальника Гамудзилова, говорила, что я хорошо известен, как очень хороший повар и так далее, но Гамудзилов даже слушать об этом не хотел и сказал, что пока он будет начальником, то меня к кухне не допустит.
Так, следовательно я работал в сушки досок, потом я был бригадиром отдела смоления. Я работал там до осени 1947 г., а осенью собирали людей на Кожух, был там лесоповал, начальник Гамудзилов приказал и меня туда выслать.
Мы собрались около воротах готовые к выходу, вдруг идет та благодушная Любовь Мироновна и увидев меня спрашивает: "А вы куда?" Я сказал, что высылают нас на лесоповал, на Кожух. Она спросила, хочу ли я туда идти, на что я ответил, что совсем не хочу. Она быстро побежала к начальнику представительства Кожух, который нас ждал возле проходной и категорически заявила, что не позволит меня туда выслать, потому что у него больное сердце и не может физически работать, в крайнем случае, может работать только на кухне. Шабелский пообещал ей это и слово сдержал. После нашего приезда, начальник сразу направил меня на кухню. Здесь я снова получил авторитет, хоть и работал очень тяжело и очень мало спал, но всё-таки не был голоден, а голод был наихудшим врагом.
Наши условия были там ужасны, потому что заслали нас на зиму вглубь леса и гор. Был там один барак, следовательно я имел маленькую кухню, которая стояла на земле, и была маленькая подсобка на 5 кв. м. для хранения и переработке овощей. В начале я был сам, было очень тяжело, потому что должен был готовить на 120 человек завтраки, обеды и ужины. Я спал не больше 3 часов в день. Ночлег также было ужасен, нары были сделаны из жерди (кругляков), печь из железной бочки, а над печью ночью сушились рабочие ботинки, 120 пар, вонь была ужасна, целую зиму никто не купался, мы могли это сделать летом в реке Кожух.
Позже помогала мне девушка, тогда было уже легче. Людей мы кормили достаточно хорошо, потому что кроме основной нормы питания мы имели много конины, потому что был там карантин больных коней на анемию, этих коней пригоняли к нам с целого района, а отсюда уже никогда не возвращались, служили здесь для вывозки древесины, а как получали приступ анемии, то их убивали, кожу снимали, мясо шло на кухню.
В Чегулах (так называлось эта местность) мы были целую зиму, а весной нас перенесли в Сосновку. В Сосновке уже было лучше, потому что пришло лето 1948 г. и барак был намного лучше и подсобку имел намного больше, даже мог в ней отдельно спать. Здесь уже работалось мне хорошо, хоть спал я очень мало, но не был голоден. Люди работали при сбрасывании древесины в реку и при вырубке.
Я очень ждал на день 12 X 1948 г. потому что именно тогда заканчивался мой приговор, то есть конец моей недоли и выход на свободу. Восемь лет это не малый промежуток времени в жизни человека. Наконец то наступил этот мечтательный день 12 X 1948 г. Утром встал в очень поднесённым настроении, я не мог есть, ждал на этот миг, когда известят меня, что я свободен, и могу идти на свободу. Я жду, нервничаю, уже и обед пришел, а тут ничего. Наконец то приходит ко мне командующий охраны и говорит, что звонили из офиса второй части, и приказали меня привести. Я очень обрадовался, я попрощался со всеми, даже начальник Шабельский поблагодарил меня за честную работу и сказал: „Доброго человека тюрьма не испортит, а плохого и церковь не исправит. Вы были молодым парнем в окружении испорченных людей, уголовников и преступников, а остались не испорченным человеком”.
Дали мне одного караульного с винтовкой и мы покинули Кожух. Мы шли с ним лесом, горами, а позже сделали плот и плыли рекой. Вечером мы приплыли к селу Смерновка, там мы переночевали у моего знакомого караульного. Караульным был молодой парень, достаточно хорошо с ним дружили в лагере. Утром мы встали, угостили нас завтраком, караульный оставил у них винтовку, и дальше вел меня без оружия. Мы пришли к нашему плоту и плыли рекой к селу Чумаи, там мы покинули плот и уже пешком пришли на первый лагерь-пункт к начальнику второй части. Этого начальника я знал и он также меня знал, потому что приезжал к нам в Кожух, я его там кормил, он всегда меня утешал, говоря, что скоро я выйду на свободу. Когда я вошел в его кабинет, то заметил, что он какой-то другой, и сказал мне, что пока что я должен буду подождать несколько дней на первым лагерь-пункте, потому что еще не имеет приказа от властей выше, что должны со мной сделать, отпустить на свободу или пока еще нет. Я ждал почти 2 недели. Позже отвезли меня в Мариинск в пересыльный лагерь, здесь уже держали почти 2 недели, я очень нервничал, и хотел чем быстрее выйти все равно на какую свободу, я пошел даже в тюремное учреждение и очень их просил, чтобы быстрее меня перевели все равно куда, даже изгнали, только чтобы быстрее закончилась моя недоля.
Я был молод, и я хотел жить, ведь я отбыл наказание хоть и не был виноват, но я отбыл и зачем я должен дольше сидеть. Пообещали, что меня отправят и действительно на другой день
отвели к вагону для заключённых, были это специальные вагоны для перевозке заключённых. Мы приехали в Красноярск, там поместили нас в терму и также держали около 3 недель. Я познакомился там с парнем в моем возрасте, был это украинец, с города Ровно, звался Николай Дячук. Был он для меня очень хорошим другом.
В конце концов, загрузили нас снова в вагон для и привезли в Канск, там держали нас несколько дней и 27 XI 48 г. загрузили нас на грузовые автомобили, на головы накинули брезент и везли около 200 км в Тасеево. По пути автомобили останавливались возле столовых, мы ходили туда греться, я имел при себе 3 рубля, следовательно, угостил чаем, Николая и одну девушку, которая была с нами, мы выпили его, а на больше уже не хватило. В следующие столовые мы ходили уже только греться. Вечером мы приехали в Тасеево, и здесь переночевали в столярной мастерской. До полуночи сторожил нас караульный, а после полночи и до утра его уже не было. Где-то в 9 часов утра в контору пришли работники Тасеевского МВД и выдали нам документ - временное удостоверение, и разделили. Меня, Николая и других назначили в Троицк на сол-завод. Эта местность расположена 30 км от Тасеева. 28 XI 48 г. вечером вывезли нас в Троицк, здесь мы переночевали в конторе на полу, утром директор Зинаков, и технорук Яновичь провели с нами разговор и мы были зачислены на работу на сол- завод.
С 29 X 148 г. мы преступили к работе, получив аванс по 100 рублей для каждого. Мы поселились у жителей села, я, Николай и 2 женщины Дроздовская и Клинцевич поселились у вдовы Моруновой, которая была одинока, владела достаточно большой квартирой, две комнаты и кухня. Мы платили за месяц по 25 рублей. Я с Николаем работал в лесу на вырубке дерев. По началу денег мы имели достаточно и питались вместе. Ведро картошки стоило тогда 5 рублей, а 1 кг хлеба 3 рубля.
К лесу мы ходили по семь километров. Мороз бывал до -45 градусов, мы вставали рано утром, а в морозную, лунную ночь возвращались домой. На работу мы брали по нескольку сырых картошин, которые по пути замерзали, эти картошины пекли мы на огню, и это был целый наш завтрак и обед. Норма, которую мы должны были выполнить вдвоем, это было 8 метров кубичных. Нужно было откопать пень дерева из снега, срезать дерево при самой земле, обрезать все ветки и сжечь их, дерево порезать на метровой длины колоды, порубать и сложить на высоту 1 м 10 см. За 8 таких метров мы зарабатывали по 11 рублей, то есть за месяц выходило 275 брутто. Пока мы имели деньги с аванса, то ходили после работы за хлебом в киоск, который был в нашей местности. Работала в этом киоске жена нашего коменданта, у которого мы были на попечении, ну и под надзором.
Наш комендант Василий Степанович был очень добрым человеком. Всегда заступался за засланцами, которые были в беде. Приведу один пример. Была там заслана немка с Поволжья с двумя маленькими дочками. Жила очень бедно, работала в цеху по выпариванию соли, зарабатывала очень мало. Воспитывала двоих детей, нужно было их накормить и одеть. Имела небольшой город, осенью, как выкопала картофель, то посчитала, сколько их было, и таким образом знала, сколько штук могла использовать на один день, чтобы хватило до весны. Дочки ходили в школу, там, как известно, учили, каким был добрым и великим Сталин, друг детей и очень справедливый. Но когда старшей дочке исполнилось 16 лет, прислали ей уведомление, что она также является засланкой и должна ходить к коменданту 2 раз в месяц прописываться. Следовательно когда пришла первый раз именно к Василию Степановичу прописываться, очень плакала, как такой добрый и справедливый Сталин позволил это, ведь она не совершила ни одной вины, а ее воспринимают как преступницу и засланку. Комендант, глядя на нее также очень плакал и велел ей идти домой, а сам поехал к руководителям району и выхлопотал, чтобы Нина уже не должна была больше прописываться.
Комендант вместе с женой были очень услужливыми людьми. Анна Кирилова, то есть, жена нашего коменданта знала нас и неоднократно, как нам не хватало денег, то продавала в кредит, а часто даже давала нам хлеб даром. Наш комендант Василий Степанович давал свою одежду или белье узникам, которые были сюда засланы, а свою одежду имели плохую или рваную.
Сообща с Николаем, не смотря на тяжёлую работу и плохую пищу, мы стремились к нормальной жизни, потому также познакомились с девушками. Одна из них работала на почте, звали её Тоней, понравилась мне, а другая работала на метеорологической станции, звали Груня, эту присмотрел себе Николай. Из-за этого, что мы были засланниками, те девушки имели неприятности, их вызывали к высшим руководителям, предупреждали, что нельзя им с нами общается, угрожали им, что будут уволены с работы. Невзирая на это Г руня ослушалась предупреждения, вышла замуж за Николая и была вскоре уволена. Писала жалобы, где только можно было, даже в Москву, но то не помогало.
Я работал в лесу целую зиму до весны 1949 г. В результате простуды по причине нехватки соответствующей одежды и ботинков, я заболел и в течение 6 месяцев находился на больничном. Больничных я получал 120 рублей, было это очень мало, но я имел к тому ещё участок 12 аров, и посадил на нем картофель и овощи, которых уже не должен был покупать. После больничного перевели меня на другую работу, где я возил древесину к варнице, то есть в цех по выпариванию соли, там ходил на работу с 4 часа утра и до 10 или 12, а потом еще шел к дальнейшей подвозки этой древесины и снова работал несколько часов, зависело от потребности в древесине.
Одного воскресенья мы работали как обычно целую смену, потому что в варнице был такой график работы, и около 12 часов, после окончании работе мы отправились в магазин, чтобы купить хлеб (в Сибири в воскресений магазины были открыты, зато закрыты в понедельник). Объявлено нам, что сегодня хлеб и другие продовольственные товары будут продаваться в школе, потому, что там воскресник, то есть общественное мероприятие, и купить могут только те, что работают.
Мы отправились в школу, действительно там продавалось все и был также список на нашу бригаду, следовательно мы выстроились в очередь, а когда дошла моя очередь оказалось, что меня нет в списке и мне не дадут. Не помогло не объяснение, что я работал, не заявление свидетелей. Обращался с просьбой к директору школы, к главе общественного национального совета, то есть председателя сельсовета, и ничего не помогло. Я ходил домой к нашему директору предприятия Зинакову, но не застал его дома, тогда очень озлобленный и разгневанный я пошел на мой участок, оторвал из грядки зеленого лука и хоть он и был таким горьким и таким, пекущим, я съел его и пошел спать.
Было уже 2 часа дня, а около 4 часов приходит гонец из предприятия и заявляет, что я должен снова идти на работу. Я сказал, что не пойду, потому, что я голоден, потому что не продали мне хлеба. Я не пошел на предприятия, только помылся и оделся по- праздничному, и с коллегами пошли на прогулку. Там я встретился с техноруком Яновичем. Он меня спросил, почему сегодня не явился на работу, когда меня вызывали, я сказал ему, что сегодня 8 часов уже отработал, а дальше не пошел, потому что был голоден. Не продали мне хлеб по причине того, что не вписали меня в список. На что мне технорук ответил, что за это меня будут судить. И действительно, в понедельник, когда я пришел на работу, то меня не приняли, только сказали идти к директору. Я отдавал себе отчет в том, что это серьёзно, следовательно я начал директора просить прощения, говорил, что немного есть и вина директора, что не внес меня в список на хлеб, а остальная моя вина, что хоть я имел уже отработанных 8 часов, но не пошел когда меня вызывали, но директор был безжалосным.
Мы будем судить — сказал, и действительно, после нескольких недель с округа приехал меня судить показательный суд, судьей была женщина с фамилией Манкевич, слушание состоялось по закону, двух заседателей и масса людей из предприятия и села, чтобы было более демонстративней. Судья задает мне вопрос, почему я прогулял роботу. Я сказал, что в это воскресенье 8 часов уже отработал, и показал на свидетелей, которые были в то время в зале, а на эти дополнительные часы я не пошел, потому что был голоден, потому что не продали мне хлеба. Судья ответил, что это оправдание безосновательно и осуждает меня на 6 месяцев лишения 25% заработка и я должен выполнять работу в лесу на вырубке.
После слушания, когда суд выехал, директор Зинаков остерег всех работников предприятия, чтобы кто-то не отважился сделать прогулы, как это сделал я. Он знал моё материальное положение, что плохое, а теперь как будут ещё отнимать 25% заработка, то вот только сейчас это почувствую.
После двух лет опять приехал районный суд к нашему предприятию, но теперь слушание было более привлекательно, в заводском клубе не могли все поместится, на скамье подсудимых сел сам товарищ директор Зинаков обвиняемый в злоупотреблениях на предприятии и в нелегальной торговле солью. Слушание длилось от обеда и почти до самого утра, и товарищ Зинаков был удален из партии и осужден на 10 лет лишения свободы. Но, однако, не сидел долго, всего едва несколько лет и с взгляду на плохое состояние здоровья вернулся домой и уже нигде не работал.
Сибиряки люди добрые, доброжелательные и гостеприимные, любят выпить и веселиться. Когда я вернулся на работы в лесу, бригадиром был россиянин сибиряк, Филипп. Поначалу был твердым, потому что вроде после этого суда имел такой приказ от директора. Но мы с друзьями взяли его на „способ”. Друг говорит: "Мы должны ему дать водки столько, чтобы он запел, тогда он поменяется". И действительно, мы взяли с Николаем литр водки, и пошли к нему домой, он нас охотно принял. Мы выпили, на закуску были соленые грибы и лук, но он еще не пел, тогда Николай говорит мне: "Едек, лети еще за пол-литрой". Следовательно, когда я принес ещё тех пол-литра, мы долили ему и действительно наш Фила запел. Николай моргает мне и говорит по-польски: "Уже поет, в порядке" и действительно наш бригадир уже был другим, я даже договорился с ним, что часть моего сделанного дерева записывал на друга, а деньги он мне уже отдаст, а бригадир в список зарплат за эти 6 месяцев вписывал малый доход, чтобы меньше было высчитано для суда.
Через некоторое время удалось мне перейти на работу к обслуживанию коней, кормлению, чистка, просто конюх. Здесь уже было хорошо, потому что работа под крышей, ну и зарплата 600 рублей, потом я работал как плотник при ремонтах.
Бригадиром был россиянин, засланец, с Брянска, фамилия его была Михалов, был это добрый человек, очень глубоко верующий. Неоднократно после работы, мы выполняли с ним частные заказы, чтобы больше заработать. Однажды мы работали у одной вдовы, и как-то эта работа пошла нам очень быстро, так что мы закончили быстрее, чем планировали, то наш бригадир сказал ей заплатить меньше. Мы протестовали, но он сказал, что нам Бог помог в этой работе, мы сделали быстрее, так что нам причитается и меньшая плата. Эта вдова была очень довольна и благодарна.
Село Троицк насчитывало около 150 деревянных домиков, преимущественно с украшенными окнами. Через середину села текла река Усолка, шириной 50 м. Впадала она в реку Тасуй, Тасуй в Ангару, Ангара в Енесей, а Енесей в свою очередь в море. Этой рекой наше предприятие транспортировало соль в устье реки на построенных плотах, а уже там была перегружена на суда и дальше отправлена вдоль реки Ангары и Енесея. Усолка зимой замерзала, можно было по ней безопасно ходить и даже ездить автомобилем, покрытой была льдом, преимущественно до 15 апреля.
Село было вокруг окружено тайгой. В Тайге много смешанных лесов, с прекрасными, ровными и высокими соснами, белыми березами, елями, кедрами, осинами и очень высокими лиственницами. В Тайге очень много разного зверья и птиц, а также грибов и ягод. Кроме ягод и грибов сибиряни в лесу находят ещё что-то съедобное, например ранней весной из сосны сдирают кору с ветки, которая выросла в прошлом году, потом струной от гитары сдирают небольшой слой и это съедают, по-видимому, в этом много витаминов. Ещё в лесу собирают разные травы, например со вкусом чеснока, едят это, как порезанный и посоленный салат, только правда если целая семья наестся на ночь, то утром невозможно войти в дом. Сибиряни грибы на зиму сушат, но преимущественно квасят в бочках как огурцы, к посолу лучше всего рыжики и грузди. Красные ягоды очень кислы, следовательно собирают их осенью, высыпают на чердаке, а зимой замёрзшее, постепенно употребляют к чаю. В Тайге также очень много прекрасных сибирских цветов.
Село Троицк известно, как давнее место зсылки поляков, потому что на кладбище есть несколько крестов с надписями по- польски и есть польские имена и фамилии, а также есть семьи польского происхождения, которые говорят русским языком, но признают, что их отец или дедушка были поляками. На этом кладбище был похоронен жены брат, было ему 14 лет, умер в результате недоедания, в похороне участвовала школа и учителя, но они предостерегли, что если будет крест, то они участия не возьмут, следовательно крест мы вкопали по захоронению.
Сибирянен, привыкший к суровой зиме, умел даже в 45- градусной мороз без спичек переночевать в тайге, а делал это вот так: прежде всего из березы сдирал тоненькой коры, немного сухого дерева, потом вытягивал с куфайки немного ваты, скатывал в маленький шарик, клал на пень и плоской палкой терл до тех пор, пока из ваты не пойдет дым и тогда с этого добывал огонь. При большом костре с ели сделает постель и ложился спать, к огню не приближалось ни одно дикое зверье, можно было спать безопасно.
Предприятие, в котором мы работали в то время праздновало 360-летие, деревянные здания строились без употребления пилы, потому что очевидно в то время там ее еще не знали, следовательно здания были построены только топором, что было заметно на углах зданий. Все устройства на предприятии были деревянными, за исключением казана, в котором выпаривалась соль и маленького паровозика, который был установлен на фундаменте, отапливаемый древесиной, и именно этой паровой машиной было приведено в действие целый механизм, соединённый деревянными трансмиссиями, таким образом, выкачивали из глубокого колодца соляную рапу. К этому колодцу были впущены толстые деревянные трубы, по этим трубам выкачивали эту соляную рапу, позже по деревянным корытам стекала к хранилищу, а потом к казану. Когда этот механизм работал летом, то еще полбеды, но зимой при больших морозах так скрипело, трещало и стучало, что на несколько километров было слышно. Вся система обогревалась и была приведена в действие древесиной, следовательно очень много надо было этих дров, а возили их почти всегда конями, потому что автомобилей были только два: старый шевролет, откупленный от армии и малая "полторатонка".
Очень часто эти автомобили ломались, большую часть времени ремонтировались, чем ездили. Однажды при ремонте этих автомобилей, водитель Василев был таким остроумным, что пошутил над директором Зинаковым. Предприятие в складе имело мед, тогда Василев говорит ребятам: „Я иду к директору, и принесу меда”. Никто ему не поверил. Но он пошел к директору и говорит: „Нету смазки для подшипников в автомобилях, следовательно пригодился бы мед вместо смазки”. Директор поверил и приказал выписать 3 кг меда. Но водители этим медом мазали себе рты, смеясь с директора.
Летом отправили нас, то есть работников предприятия, на три месяца вглубь тайги, около 30 километров, на покосы. Мы косили косами и конными косилками, высушенное сено, складывали в стога, а зимой это сено возилось в конюшне для коней. На покосах мы проживали в охотничьей хате, спали на сене. После работы готовили еду на костре, часто вместе, потому что с нами работали многие охотники, которые имели с собой охотничьи ружья и собак, следовательно ходили на охоту, добытое на охоте, преимущественно молодые глухари или тетерева шли на общий обед. На покосах вместе с нами работал также Михалов, этот справедливый и очень верующий, о котором я уже вспоминал. Он в воскресенье никогда не работал, не смотря на то, что мы все в то время работали, а он лежал в этой хате или гулял по лесу, но когда мы все возвращались к хате или по вечерам, когда уже ложились спать, то он нам всегда рассказывал из Евангелии о жизни и муках Иисуса. Евангелие знал целой наизусть, очень охотно все его слушали.
Осенью, почти ежегодно большинство экипажа делегируют на колхоз, на работы при урожаях. Колхозные поля находятся 15 км от села, там стояли три дома, малая колхозная пекарня и кухня, на кухне готовили картофель в „мундире” или „пюре” и чай, тем нас и кормили. Мы спали по-коммунистки, на соломе, в ряд, друг возле друга, безразлично мужчина или женщина, старший или молодая. Где было место, там и ложился спать, только никто не хотел ложиться возле Карыма, потому что это был черный азербайджанец, он не умел говорить по-русски и был некрасив, а до того еще женщины его боялись с сексуальных соображений, потому что этим людям из восточной Азии очень нравятся белые женщины.
Работа в колхозе была разной при молотьбе, при обслуживании комбайнов или кошении. Пшеница вырастает там очень прекрасная, только известно, лето там короткое, и этот урожай и не скошенный хлеб уже осенью присыпает снег, а тогда уже идёт экстренная работа, потому что из всех предприятий, рабочих направляют на колхоз на работу. Тогда уже работа бессмысленна, но нужно работать, тогда во главе идет группа людей с палками и поднимает из-под снега засыпанную пшеницу, а вслед за ними еще одна группа с вилами собирает этот мокрую пшеницу и складывает на кучи. В конце концов, приходит мороз и эти кучи замерзают, так что их даже киркой не возможно разбить, следовательно оставались до весны, а весной просто сжигались, вот и весь человеческий труд. Зато хлеб, скошенный комбайном преимущественно, ссыпается на кучу на стерне, а потом автомобилем перевозится к колхозу, а остальное для государства. Но хуже всего когда шел дождь, потому что вода заливала ети кучи пшеницы, следовательно быстро эта куча покрывалась толстым зеленым кожухом. По этой причине были очень большие потери, ну и плохое качество муки.
Но хоть работа была тяжелая, и была бедность, но как-то было весело. Россияне, а особенно сибирцы, добрые и весёлые люди, ни из-за чего не волнуются, всегда с юмором и песнями, а даже с танцами. Преимущественно всегда их должна сопровождать гармошка, балалайка или гитара, то ли на покосе, в колхозе или на лесоповале, а в заводском клубе ежедневно проводились танцы, вечером молодежь, которая возвращается из клуба, всегда была распета.
Сибирцы очень суеверные и забубонные, например как идут на охоту, то нельзя им говорить, добрый день и спрашивать, куда идут, потому что очень злятся и не отвечают, зато очень довольны, когда охотнику желают: ^'Не пуха, не пера". Или как хозяйка несет молоко, то также не ответит "добрый день". А также верят в волшебство, якобы можно наслать заклинание какой-то болезни на людей и животных. Например, было так: у моей соседки заболела корова, они были убеждены, что эти чары были насланы 14 - 15 летними парнями. Эти парни были сиротами, их мать была мнимой "колдуньей", следовательно они тоже, и когда эта корова заболела, то соседка пошла к этим парням, чтобы они расколдовали ей эту корову. Они объясняли, что это не они ее заколдовали, но хозяйка была неумолима. Угрожала им, что если не расколдуют, то будут побиты, так и случилось, что этим парням досталось от ее взрослого сына. В конечном итоге эти "волшебники" приступили к снятию чар с коровы, этой больной коровье силой вливали в пасть воду с квашеных огурцов и капусты, эта вода была очень соленой и кислой, а вливали так много, что вскоре эта корова не расколдованной и сдохла.
Сибирцы православной веры, в домах в главном углу много икон, это иконы Иисуса, Богоматери и святых, перед иконами находится лампадка, которая всегда горит. Старые люди, как входят в чужую квартиру, сразу кланяются перед иконами и тремя пальцами три раза крестятся, а потом говорят добрый день, молодые этого не делают, и молиться не умеют, но считают себя верующими.
Рассказывали нам, что в селе была прекрасная каменная церковь, были прекрасные колокола, но во время войны эти колокола были нужны властям на амуницию, а кирпич на ремонт печей в соляном предприятии. Нужно было колокола снять, а церковь разобрать, но по-видимому никто этого не хотел делать, следовательно устроили на площади возле церкви патриотический митинг, говорили представители власти, что бронза нужна на пули, а кирпичи на печи, следовательно, чтобы добровольно и патриотически начали церковь рушить, но долго не было желающих. В конечном итоге нашелся один храбрец, вылез на башню с молотком и зубилом, и начал быстро и завзято бить, и кричит сверху: "Видите, и ничего мне этот ваш Бог не сделает, сейчас будут с этого пули". Но через минуту этот смельчак притих, когда пошли на башню посмотреть что случилось, то застали его парализованным, и по словам через три дня умер. А потом, через некоторое время прислали людей, которые при фундаменте сделали дыры, позакладывали взрывной материал и, и после церкви осталась только большая куча щебня. Люди часто вспоминают об этой церкви, а летом в воскресенье и праздники сидят на траве, на берегу реки, на лавках перед домом, или гуляют по улице, потому что куда ещё пойдут.
В майскую, воскресную, послеобеденную пору мы гуляли с Николаем по улице Большой, было солнечно и тепло. Возле одного дома стояла кучка людей, на скамье сидели старшие женщины, а возле них стояли молодые девушки и разговаривали. Мы подошли к ним. Тут мне понравилась одна милая девушка, которую звали Антося, была она среднего роста и с очень симпатичным лицом. Мы обменялись с ней несколькими словами, и пошли дальше. Я сориентировался, что эта девушка была здесь с матерью и младшими братьями и сестрами. Была это польская семья, вывезенная на Сибирь. Мы с Антосей начали встречаться, она мне помогала даже на моём огороде, когда полол овощи и картошку. Через некоторое время наши взаимоотношения начали портиться, потому что начала она ходить с неким латышом, которого вероятно не любила. Позже так сложилось, что мы работали с ней вместе, и не были друг другу безразличны, и она сказала моему другу, что хоть и ходила с латышом, но и так Едка любит. Следовательно долго размышлял, что тут делать, уладить ли отношения заново и встречаться с ней дальше или нет. Весной представился случай, когда только вдвоем с ней работали, мы возили из луга под лесом песок. В то время, когда я ездил, она насобирала букет цветов и подарила мне, тогда и начались наши первые поцелуи, и осенью 1950 г. эти цветы нас соединили навсегда. С этого времени, весной, я всегда приношу букет весенних цветов моей жене в память именно об этих цветах.
В то время, когда мы должны были с женой обручиться, то были очень бедны. Я имел куфайку, а она не имела, тогда после нашего знакомства я купил ей куфайку, за которой должен был далеко идти и еще поставить пол-литра. Одеяло также купили вмести, потому что жена имела только одну подушку. Мы проживали в заводской квартире вмести с одной семьей. В то время я работал конюхом, а жена в цеху по выварки соли, вмести мы зарабатывали около 120 рублей. Мы купили себе теленка и вырастили из него корову, потом также купили поросят, из которых вырастили свиней и так мы справлялись, как только могли.
23 IX 1951 г. у нас родился сын, которого мы очень любили. Назвали его Тадеуш, потому что я уже потерял надежду, что когда- нибудь вернусь в Польшу, думал, что уже останусь на Сибири, а сыну его имя будет напоминать имя этого славного, великого поляка, что он тоже поляк и может когда-то будет иметь возможность быть в Польше и, чтобы это имя свидетельствовало, что течет в нем настоящая польская кровь.
В то время, когда жена была в декрете, то мы решили построить себе домик. Купили с этой целью старый сарай, остальное дерево мы наносили, с женой с леса. И так начали строить. Я нанял с этой целью человека, а сам знался на плотничных работах, так и строили. И так на зиму мы вошли уже в собственный дом. После декрета жена вернулась на работу. Условия работы были ужасны. Летом то еще пол беды, но зимой было невыносимо, тяжело даже было себе представить, как этот человек выдерживал, а в дополнении еще и женщина, в неотапливаемым помещении при 40-градусном морозе, в паре, где на расстоянии полу метра друг друга не было видно. Когда человек мешал рапу в казане, то одежда спереди была мокрой, и спина замерзала, а как только от казана отходил, то целая одежда становилась льдом и была твердая как метал. Выработанную соль рассыпали по мешкам 45- 50 кг. Эти же женщины должны были эту соль в мешках поносить на спинах на воз и отвести в склад, там опять они же, должны были её из воза на спинах вынести на 2 этаж и высыпать. Эту всю деятельность выполняли 4 женщины, около 15 тонн за одну смену.
Мы уже имели собственный дом, только было много трудностей с покупкой чего-либо домой. То есть мы не могли купить никакой мебели, посуды, никаких столовых приборов. Не было ни в чем сварить, ни в чем принести воду, ни чем нарубить дров. В конечном итоге я получил ведро от врача с амбулатории, хоть стоило это долгой настойчивости. И так понемногу все подоставали, а чего не имели, то одалживала соседка Плотникова, коренная сибирячка, муж которой работал в этом самом предприятии, что и мы. Работал в кабинете, бухгалтером, жена его не работала. В этих условиях они жили себе хорошо. Имели все свое.
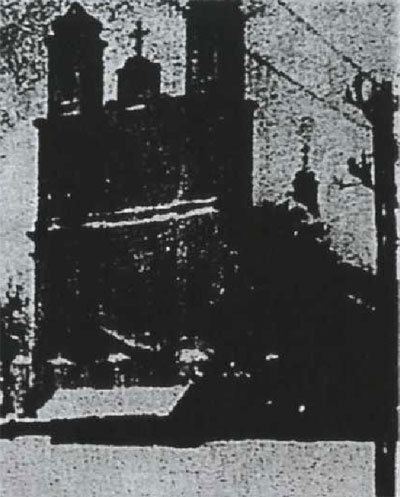
Церква в Вормянах

Автор после выхода с лагерей 1948 г.

Бригадир Михалов, русский засланец с Брянска, с неизвестной сибирячкой

Юзеф Чарнецкий, бывший голова в Вормянах, как комендант лагеря для людей
преклонного возраста и польских женщин в Африке
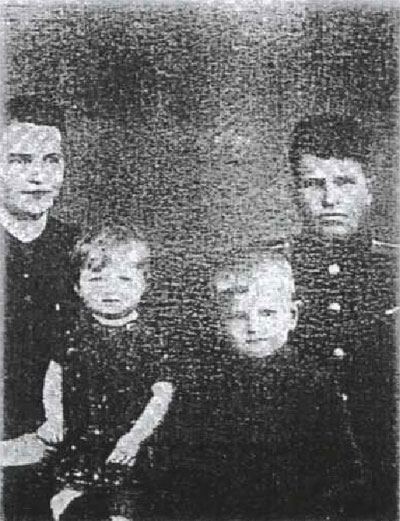
Комендант Василий Степанович с женой Анной Кирилловной и с детьми
Очень нас любили, не было у них ни одного мероприятия, на которое нас бы не пригласили. Каждою субботу топили в бане и всегда нас приглашали, чтобы мы искупались, а по купанию еще и приглашали на чай.
И так начали мы понемногу вставать на ноги. Картофель, мясо и молоко мы имели свое, потому что имели участок, корову, а на осень резали свинью. Особенно улучшилась жизнь после смерти Сталина в 1953 г. В магазинах было уже хлеба в достаток, время от времени был сахар, ну и другие товары также были, так что я купил себе даже велосипед и большое радио на батарейках. 15 апреля 1954 г. родилась у нас дочка, которую мы хотели уже очень давно, назвали её Анной. Детей мы водили в ясли, а позже и в детский сад.
Жили все лучше, имели больше друзей. В целом сибирцы люди, достаточно добрые. Климат в районе Красноярска тоже не самый худший. Только, что зимы были морозными и длинными, потому что начинались порою в середине октября, и 1 мая бывало, что ещё лежит старый снег и пролетает новый. Сажание картофеля происходит 10 июня, а выкопка в сентябре, но земля очень урожайная, прекрасно все дорастает и созревает. Земля такая богатая, что не применяются никакие удобрения, гной выбрасывается к низинам или в болота. Сибирские районы строились исключительно возле рек, расположены далеко один от другого, ближайшие 10 - 20 км, асфальтовых дорог не было, только лесные дороги. Если дорога проходила через болото, то срезалось дерево и улаживалось одно возле другого, а наверх клали ветки.
Леса здесь огромные, без начала и без конца, богатые на зверье и птицу. Были тут лоси, барсуки, зайцы, рысьи, медведи, лисы, белки и очень богатые на мех соболи. Одна сырая шкура соболя стоит почти среднюю месячную зарплату. Из птиц здесь есть дикие гуси, утки, тетереве, похожее на индюков, ну и очень много сорок.
Тайга прекрасна летом, здесь много прекрасных цветов, только не пахнут как у нас. Наихудшее, то что не дают там жить комары, а еще худшее эти маленькие мушки, местный называют мошка, их там миллионы. Если бы человека или животное привязать к дереву, то в течение дня бы умер. Домашние животные, такие как кони и коровы пасутся ночами, а люди, которые идут в лес, одевают на голову такой капюшон с густой сеткой, которая закрывает лицо и позволяет дышать. Коровы пасутся без пастуха, вечером их выпускали, а утром сами возвращались домой. К лесу коровы ходили группами, поодиночно не ходят, потому что боятся диких животных. У нас не случалось, чтобы медведь убил корову, хотя коровы ночью отдаляются от микрорайона даже до 15 км. Если корова заметит медведя, то ужасно ревет, а на ее голос ревут все, гонясь в направлении опасности, и ревут так долго, пока не будет отогнан непрошеный гость так далеко, что уже не будет им угрожать.
Если идет речь о медведе, то моя жена также пережила ужасный страх. Когда была беременной, то была в декрете, следовательно пошла утром в лес косить траву на сено. Была 12 км от дома, этот покос находился за ручьем, на лесной опушке, а немного дальше был дремучий сосновый лес, там собирали смолу с сосен, когда жена переступила ручей, то заметила, что роса с травы стряхнутая и были следы, словно кто-то прошел. Обрадовалась, думала, что кто-то уже пошел собирать смолу, и она не будет сама, ну и идет довольная, но когда дошла к гнилой колоде и увидела, что кора обдертая, а колода перевернута на другую сторону, и трава примята, остолбенела и уже знала, что был здесь или неподалёку есть медведь. Все-таки от покоса в этот день не отказалась, хоть очень боялась и косила до вечера.
На Сибири женщины работают очень много и тяжело. В их обязанности входит: накашивать на целую зиму сена, от трех до шести тонн, в зависимости от количества скота, потому что можно было держать одну корову, и два приплода, а зимой кормились исключительно сеном. Должны также напилить на целую зиму дров, и кроме того еще ежедневные домашние обязанности. Если какой-то муж принес жене ведро воды, то позже был высмеян знакомыми, как „бабский подкаблучник”.
В июне 1955 г. приехал в сельсовет представитель МВД, вызвал меня к себе и заявил мне, что я являюсь чужестранцем, и хотел бы я выехать в какую-либо страну народной демократии. Я ответил, что я поляк, и если можно, то только в Польшу. Сказал, что можно, только нужно заполнить анкету, в анкете все мои данные и данные моей семьи. На вопрос, когда можно будет выехать, ответил, что через две или три недели, но прошел месяц, другой, третий, а тут ничего. Я подумал, что ничего с этого уже не будет, но 28 ноября вызывают меня в районный МВД. Когда я приехал, направили меня к самому начальнику, этот увидев меня пожал мне руку, предложил сесть, ну и сообщил, что мы имеем разрешение на выезд в Польшу, следовательно 6 декабря выезд. Я поблагодарил и вернулся домой.
Мы начали готовиться к выезду. Много продалось, много даром отдали. Детей и то что можно было с собой забрать, мы забрали. 5 декабря мы сделали прощальный вечер, пригласили знакомых и друзей, был полный дом гостей, попели и поплакали. Утром 6 декабря, пришло время выезжать, попрощается пришла половина сел, провожали нас со слезами на глазах, так, как бы свою семью провожали, хоть были это чужие люди. Я не забуду нашего соседа бухгалтера, который вышел из кабинета попрощаться с нами, когда уже попрощался, то шел за автомобилем и плакал.
Выехали автомобилем в Тасеево, а оттуда автобусом к Канску. В Канску мы сели в поезд, здесь собирались одни только поляки, уже нам было веселее, потому что мы слышали польскую речь. Был нас один вагон. Когда мы приехали в Красноярск, то там уже было сформировано тринадцать вагонов, а наш был четырнадцатым. 7 декабря мы выехали из Красноярска. Были удобные и чистые вагоны, каждый имел спальное место и чистую постель, отличное питание, для детей натуральное молоко и в порошке, масло и вообще все самое лучшее. Для нас преимущественно были обеды, заказываемые в ресторанах. Поезд останавливался, а мы ходили есть.
Мы ехали 22 дня, чем ближе к Польше, тем веселей. В Рождественский вечер мы украсили столы маленькими елками или ветками пихты или ели, мы зажгли свечи и беспрепятственно пели колядки. На станции Мостиска, мы вывесили на крышу и в окнах вагонов бело-красные польские флаги, никто нам уже этого не запрещал.
28 декабря 1955 года около полудня мы приближались к польской границе, был это момент тишины и сосредоточенности почти никто не отзывался, а когда мы проехали границу и увидели польскую пограничную охрану, в польских мундирах с орлом на шапке, которого уже давно не видели целых 15 лет, то плакали все как дети, мы повыскакивали чем побыстрей из вагонов, чтобы быстрее стать на эту святую польскую землю. Некоторые брали эту землю в руки и целовали, вздохи мы имели все одинаковые, чтобы нас уже никогда с этой любимой землёй не разлучили. Из вагонов автомобилями забирали нас в репатриационный пункт в Журавичах Дольных, там мы услышали очень милое поздравление, но и так закончилось в громадном сокращении описание пятнадцати лет скитаний: 12 X 1940 г. — 28 XII 1955 г.