












_3.jpg) Однажды утром, в июне 1947-го, перед выходом бригады на работу, мне было
велено оставаться в бараке, чем я был немало удивлен. Часов около десяти в барак
пришел охранник, потребовал мою регистрационную карту и, просмотрев ее, велел
показать мою одежду, чтобы убедиться, что вся она имеется в наличии. Мы как раз
сдали зимнюю одежду и получили летнюю, состоявшую из хлопчатобумажных брюк,
куртки и шапки. Проверив все, он велел собрать вещи и следовать за ним.
Однажды утром, в июне 1947-го, перед выходом бригады на работу, мне было
велено оставаться в бараке, чем я был немало удивлен. Часов около десяти в барак
пришел охранник, потребовал мою регистрационную карту и, просмотрев ее, велел
показать мою одежду, чтобы убедиться, что вся она имеется в наличии. Мы как раз
сдали зимнюю одежду и получили летнюю, состоявшую из хлопчатобумажных брюк,
куртки и шапки. Проверив все, он велел собрать вещи и следовать за ним.
В сопровождении охранника я вышел через главные ворота "Евролины", кивнув на прощанье оказавшемуся на пути Грибунову. И никогда больше не видел его, моего доброго знакомого. Шагая вдоль тянувшейся по откосу железной дороги, мы спустились к Норильску и направились в безымянный лагерь, именовавшийся попросту "лагерь номер два". Иные лагеря в окрестностях Норильска свои названия имели - например, "Западная" и "Евролина", но большинству были присвоены лишь номера.
Когда мы добрались до лагеря, охранник повел меня к начальству, где я прошел обычные формальности: регистрация, мытье, бритье. Потом мне определили бригаду и барак.
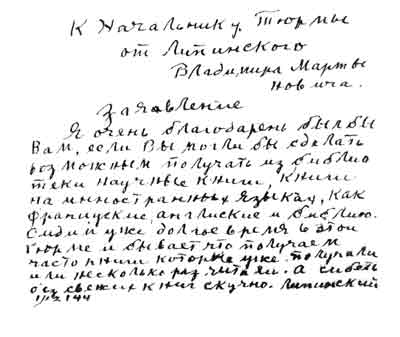
_2.jpg) Лагерь номер два был большим, там насчитывалось не менее полусотни бараков,
поставленных аккуратными рядами. Поскольку эти бараки, собственно, и являли
собою город Норильск, за их внешним видом тщательно следили. Одноэтажные
строения, протянувшиеся по склону горы Шмидта, имели длинные, спускавшиеся по
косогору лесенки, благодаря чему напоминали настоящие дома. Каждый
свежевыбеленный барак был разделен коридором надвое во всю длину, на две равных
половины. В коридоре были умывальники и вешалки для одежды. Нары вдоль стен
оказались, как обычно, двухъярусными, но между каждой их парой были узкие
проходы, чего я прежде не наблюдал, во всех бараках, где доводилось обитать
прежде, нары тянулись сплошными рядами. Впервые за время своей лагерной жизни я
увидел на нарах матрацы и одеяла. В центре помещения располагалась небольшая
кирпичная печь с огромным жестяным колпаком для удержания тепла. За печью -
длинный стол и лавки. В углу - кадка с водой для мытья и жестяной бак с питьевой
водой. В каждой секции был свой дежурный, следивший, чтобы еда появлялась на
столе в назначенное время, чтобы в бараке было чисто. В ведении дежурного были и
матрацы с одеялами.
Лагерь номер два был большим, там насчитывалось не менее полусотни бараков,
поставленных аккуратными рядами. Поскольку эти бараки, собственно, и являли
собою город Норильск, за их внешним видом тщательно следили. Одноэтажные
строения, протянувшиеся по склону горы Шмидта, имели длинные, спускавшиеся по
косогору лесенки, благодаря чему напоминали настоящие дома. Каждый
свежевыбеленный барак был разделен коридором надвое во всю длину, на две равных
половины. В коридоре были умывальники и вешалки для одежды. Нары вдоль стен
оказались, как обычно, двухъярусными, но между каждой их парой были узкие
проходы, чего я прежде не наблюдал, во всех бараках, где доводилось обитать
прежде, нары тянулись сплошными рядами. Впервые за время своей лагерной жизни я
увидел на нарах матрацы и одеяла. В центре помещения располагалась небольшая
кирпичная печь с огромным жестяным колпаком для удержания тепла. За печью -
длинный стол и лавки. В углу - кадка с водой для мытья и жестяной бак с питьевой
водой. В каждой секции был свой дежурный, следивший, чтобы еда появлялась на
столе в назначенное время, чтобы в бараке было чисто. В ведении дежурного были и
матрацы с одеялами.
Каждое утро дежурный приносил из сушилки валенки, висевшие там с вечера на крюках. Все они были пронумерованы мелом - мой номер 0111, но мел легко стирался, и каждый заключенный метил свою пару как-то по-особому, чтобы валенки не украли и не подменили. Располагая одеялами, спать в одежде уже не пришлось, и ее на ночь вешали для просушки. Она тоже была помечена номерами.
В лагере номер два я впервые столкнулся с постоянной заботой о чистоте барака и людей. Раз в десять дней нас водили в баню, где машинкой выбривали волосы на всем теле (чтобы уберечь от вшей), выдавали по крохотному кусочку мыла. Перед баней мы сдавали одежду для дезинфекции, а после бани выстраивались в очередь за чистым бельем. Брать приходилось то, что давали - неважно, подходило ли оно по размеру. Если белье оказывалось тесным, его приходилось разрывать по швам, чтобы не давило. Понятно, что при следующей выдаче оно превращалось в лохмотья. Кроме того, я впервые попал в лагерь, где наши ватные штаны и бушлаты регулярно стирали - правда, раз в три месяца.
_1.jpg) Главным предназначением заключенных этого лагеря было строительство большой
фабрики для переработки руды, именовавшейся БОФ. В первый вечер моего прибытия
бараки стала обходить комиссия, выяснявшая специальность новоприбывших. В моей
новой бригаде я подружился с молодым парнем, не старше двадцати. Звали его
Михаил. Уже посвященный во все <ухватки>, он посоветовал мне зарегистрироваться
механиком. Механиком назвался и молодой еврей Ваня. Всех трех определили в
группу техников - хотя ни один из нас понятия не имел о механике.
Главным предназначением заключенных этого лагеря было строительство большой
фабрики для переработки руды, именовавшейся БОФ. В первый вечер моего прибытия
бараки стала обходить комиссия, выяснявшая специальность новоприбывших. В моей
новой бригаде я подружился с молодым парнем, не старше двадцати. Звали его
Михаил. Уже посвященный во все <ухватки>, он посоветовал мне зарегистрироваться
механиком. Механиком назвался и молодой еврей Ваня. Всех трех определили в
группу техников - хотя ни один из нас понятия не имел о механике.
Утром нас повели на фабрику, находившуюся всего в ста метрах от главных ворот. На входе и выходе в лагерь нас пересчитывали, но работать мы шли без конвоя, как будто были "вольными".
Утром наша троица свежеиспеченных "механиков" оказалась в цехе обработки металла. Тут же выяснилось, что нам предстоит чертить эскизы моделей котлов, подложек и прочих устройств для плавки металла. Бригадир-еврей по фамилии Штейн начал было растолковывать мне мои обязанности, но я кивнул на Ваню:
- Обращайтесь к нему. - я всего лишь его помощник...
Штейн быстро объяснил, что от нас требуется, и дал для начала эскиз попроще. Покачивая головой с видом профессионала, Ваня стал размышлять, то приставляя палец ко лбу, то поглаживая подбородок. Когда Штейн вышел, мы втроем встали вокруг листа железа и стали тихонько совещаться, что же делать. С чего начинать? За какие инструменты браться? Мы и представления не имели... Вернувшийся вскоре Штейн быстро догадался об истинном положении дел, но ничего не сказал. В конце концов Ваня решил взять быка за рога и на глазок набросал свой первый в жизни эскиз, затем, авторитетным тоном подозвав рабочего, велел ему взяться за горелку. Разумеется, то, что получилось в итоге, мало походило на нужный образец. Размеры чертежу совершенно не соответствовали.
- Ничего,- сказал Ваня.- Эксперты тоже ошибаются...
На счастье, вскоре я познакомился с немцем, настоящим специалистом, и он понемногу научил нас кое-чему. Со временем у нас стали получаться вполне пригодные изделия, чему мы были очень рады, поскольку избежали участи тех, кто возил тачки.
.jpg) Работы велись в ускоренном темпе - начальство хотело, чтобы до холодов стены
были возведены, а крыши покрыты жестью. Стены росли так быстро, что даже мы
трое, "профессиональные механики", порой должны были браться за тачки. В конце
лета стало холодать так, что за улице замерзала вода, но, несмотря на это,
укладка кирпичей и выработка цемента не прекращались. Начальство заявило, что у
строителей есть новый метод приготовления цемента, позволяющий не прекращать
работы даже на морозе, да уж, фактически это был новый метод! Цемент не
застывал, а попросту замерзал, так что его можно было выковыривать из кладки
пальцами...
Работы велись в ускоренном темпе - начальство хотело, чтобы до холодов стены
были возведены, а крыши покрыты жестью. Стены росли так быстро, что даже мы
трое, "профессиональные механики", порой должны были браться за тачки. В конце
лета стало холодать так, что за улице замерзала вода, но, несмотря на это,
укладка кирпичей и выработка цемента не прекращались. Начальство заявило, что у
строителей есть новый метод приготовления цемента, позволяющий не прекращать
работы даже на морозе, да уж, фактически это был новый метод! Цемент не
застывал, а попросту замерзал, так что его можно было выковыривать из кладки
пальцами...
Спешка, холода и "новый" цемент привели к катастрофе. Боковая стена одного из цехов, возведенная уже на две трети, вдруг обвалилась, придавив рабочих. Сколько людей при этом погибло, мы так и не узнали - еще до начала спасательных работ все бригады моментально погнали в лагерь. Назавтра большинство их, в том числе и нашу, перевели в лагерь номер девять, на другой конец города. Стену восстановили другие.
Девятый лагерь тоже оказался неплох - бараки были чистые и теплые, опять-таки имелись матрацы и одеяла. Построенный возле обширных залежей глины, лагерь должен был производить строительные материалы для Норильска. Там располагались печи для обжига кирпича, цеха по изготовлению бетонных блоков, стеклянных перемычек, оконных рам. На выработке кирпича работали круглые сутки, в три смены. Механизмов почти не было, мешалки оказались примитивными, даже кирпичи резали вручную. Фабрика эта делилась на две части: меньшую, где месили глину и резали из нее кирпичи, и большую, где стояли три печи для обжига. Именно туда меня и определили.
Вездесущие надсмотрщики беспрестанно подгоняли работающих. Поскольку фабрика эта была основным производством стройматериалов для Норильска, начальство пыталось добиться прямо-таки лихорадочных темпов работы. Оно подгоняло, грозило, сыпало обещаниями, но мало чего добилось. Большинство заключенных девятого лагеря составляли уголовники, всеми силами отлынивавшие от работы.
В конце концов, в самом начале 1948 года, девятому лагерю присвоили новый номер - пятый. Чтобы работа продолжалась более-менее нормально, уголовных перевели куда-то в другое место, а на смену им пригнали много политических. Во время этой реорганизации меня и перевели в бригаду строителей, возводивших Норильск. Стройка, куда нас направили, именовалась "Горстрой", и нашей задачей стало возводить пяти- и четырехэтажные здания вместо старых, одноэтажных, больше похожих на лагерные бараки.
Всякая стройка начиналась с того, что площадку тщательно очищали от всякого мусора и обтягивали колючей проволокой. Потом начинали копать фундаменты. Чтобы построить пятиэтажку, нужно было, миновав слой вечной мерзлоты, докопаться до твердой земли - иными словами, углубиться на 16-24 метра. Все это люди проделывали исключительно с помощью кирок и лопат. Фундаменты были не сплошными - они представляли собой нечто вроде столбов площадью около двух квадратных метров. На эти столбы устанавливались бетонные опоры, а уж на них возводилось здание.
На установке одного фундамента обычно работали трое - один копал, а двое других наполняли ведра и вытаскивали их из ямы. Работали мы по десять часов в день, с получасовым перерывом на обед. Порой температура достигала минус сорока, мы работали в таком темпе, что разоблачались до пояса. Чтобы выкопать один такой котлован и залить в него бетон, требовалось один-два дня.
Закончив с фундаментами, мы принимались возводить стены. И тут все делалось без всякой механизации. Кирпичи, цемент, бревна - все приходилось вручную поднимать с первого этажа до пятого. Несмотря на столь примитивные условия работы, даже в середине зимы на строительство одной пятиэтажки уходило не более трех месяцев.
Разумеется, потери материала были большими и постоянными. Порой при выгрузке разбивался целый поддон кирпичей, порой ветер выдувал добрых полвагона цемента, пока мы разгружали его лопатами. Заключенных, понятно, это нисколечко не печалило, наоборот, они использовали любую передышку, чтобы украсть где-нибудь деревяшек и погреться у костра. Главное было выполнить дневную норму и сдать дом в установленный срок.
Хотя работа была и тяжелая, в пятом лагере мне жилось лучше, чем в прежних. Политзаключенные были людьми интересными, легкими на разговор, обладавшими чувством взаимопомощи. Возвращаясь вечером в лагерь, мы болтали, шутили и смеялись по любому поводу. Когда наши колонны шагали по Норильску, люди поглядывали на нас сочувственно. Остановиться и пообщаться с ними мы, разумеется, не могли, но на душе становилось легче.
В пятом лагере я впервые со времен Дудинки служил святую мессу. И вновь моим ангелом-хранителем стал отец Каспер, прибывший прямо из Дудинки и каждый день отправлявший богослужения для больших групп поляков, литовцев, латышей и других католиков. В первый же вечер он отыскал меня и попросил о сотрудничестве. Я был счастлив и вскоре принял у него одну из его "парафий".
Ее организатором стал поляк Виктор, человек среднего роста, совершено лысый, с бледным лицом и черными, как уголь, глазами. Когда-то он был учителем, а теперь стал переплетчиком, и его мастерская располагалась в здании лагерной дирекции. Там, под носом начальника, я и служил мессы - каждый вечер, за редкими исключениями. Небольшую чашу и дарохранительницу для меня изготовил из никеля один из заключенных. Вино делали из изюма, а хлебцы для причастия выпекали работавшие на кухне латыши-католики.
Виктор каждый вечер бывал на мессе и принимал причастие. Часто приходил и русский Смирнов, знавший на память мессу и отвечавший от имени прихожан. Собирать каждый вечер столь людей было опасно, можно было привлечь к себе внимание, но все больше людей, узнав о мессах, желали присутствовать. Однажды мы с отцом Каспером пошли на риск: стали служить мессу в одном из бараков, где жили в основном литовцы и поляки, а их бригадир тоже был верующим.
В конце концов кто-то "настучал". Меня убрали из строительной бригады и перевели в другую, мало того, переселили в барак на другом конце лагеря, под надзор сурового бригадира, которому было велено особо за мной приглядывать. Однако о религии он не имел совершенно никакого представления, а потому и не догадался, что обязан следить как раз за моей пастырской деятельностью. Прихожане стали приходить в мой барак, якобы желая сыграть в карты или домино, а сами посреди шумной болтовни шептали мне, когда состоится месса, исповедь или причастие. Выходя затем словно бы на прогулку, я встречал своих прихожан и, прохаживаясь с ними, исповедовал или давал причастие. Когда желающих набиралось особенно много, я просил их встать назавтра пораньше и ждать меня в условленном месте. Словно бы случайно сталкиваясь с ними, когда они собирались по 2-3 человека, я вновь причащал и принимал исповедь. Иногда я давал причастие во время вечерней мессы, потому что держать при себе святые дары ночью было бы чересчур большим риском. Специально святых даров охранники во время обысков не искали, но забирали все "посторонние предметы.
Временами начальство выспрашивало меня о моей религиозной деятельности, а однажды открыто предупредило, чтобы я "этим больше не занимался". Ясно было, что за мной шпионят. Однако Виктор старательно подслушивал разговоры в здании дирекции и, если слышал мою фамилию, старался высмотреть в щелочку, кто на меня доносит.
Со временем, чтобы сбить с толку шпионов, мы стали служить мессу в разных бараках, устроившись где-нибудь в уголке, если дежурный был своим человеком и охранял двери от посторонних. Мы с отцом Каспером произносили проповеди, прогуливаясь с прихожанами по лагерю, так что со стороны выглядели всего-навсего еще одной кучкой заключенных, собравшихся поболтать. Временами, когда в бараке было мало людей и они были заняты игрой в домино или чтением (точнее, имитацией чтения) коммунистических брошюр, я прямо там исповедовал прихожан. Значительная их часть приходила на исповедь регулярно, раз в месяц, а иные и раз в неделю. В общем, наша "подпольная парафия" процветала.
К середине 1948 года по лагерю разнеслось известие, что под Норильском собираются строить большую медеплавильную фабрику. Заключенные узнали об этом от работавших в дирекции сотоварищей, а те - от начальства. Стройке придавалось столь важное значение, что руководить ею поручили генералу Звереву, имевшему репутацию человека, никогда не срывавшего установленных сроков. И вот в один из вечеров на доске объявлений появилось очередное: "Нижеперечисленным приготовиться к этапу..."
В списке оказалась и моя фамилия.
Перевод Александра Бушкова
Альманах ЕНИСЕЙ, июль-август 1999