












Без этих людей — искажение масштабов.
Они умеют даже в запредельном горе жить в радости от жизни.
Не озвереть и не одичать, когда и озверение, и одичание неминуемы.
Вести себя только по самой высокой шкале.
«Нам полагается молчать о том, что мы пережили.
С какой стати я буду молчать?»
Надежда Мандельштам
К нам в редакцию пришел Август Михайлович Гарин, академик, врач-онколог. Он принес маленькую красно-бордовую книжку. На обложке — некрупно и неброско: А. Васильева «Моя Голгофа».
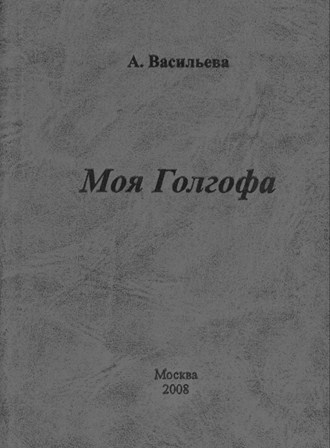
Восемнадцать лет своей жизни мама Гарина — Александра Захаровна Васильева — провела в сталинских лагерях. Об этом — книга.
Август Гарин издал ее сам, на свои деньги. И только в этом году.
«Мама начала писать воспоминания сразу после освобождения, в 1955-м. К 1963 году рукопись уже была готова. В «Известиях», где тогда работал мой отец, все, кто читал — не спали ночь. К главному редактору Алексею Ивановичу Аджубею мамина рукопись попала за два дня до брежневского переворота. Аджубей прочитал, хвалил, хотел отдать лично в руки своему тестю Хрущеву, но не успел. Хрущева сняли. Аджубей потерял работу. И все тогда сразу закрылось. «Сталинская тема» в том числе».
Книга читается одним «дыхом». Она сильная и талантливая. И знаете, для чего принес ее нам А.М.? Нет, не для рецензии, не для того, чтобы мы о его маме написали или о нем самом (это уж потом была наша собственная инициатива), а чтобы через газету попытаться найти детей или внуков женщин, с которыми мама сидела в тюрьмах и лагерях.
Самих этих женщин, наверное, уже нет. Но Александра Васильева рассказывает о них так — одновременно! — взволнованно и почти с полной отрешенностью, страстно и сдержанно, что перед нами они — живые, очень живые.
Эта маленького формата книга — чрезвычайно плотная. И многолюдная, густонаселенная. Не пейзаж из лиц, а один человек плюс еще один, плюс еще один, плюс еще один. Почти на каждой отдельной странице — отдельный человек. С деталями биографий, с откровенными разговорами, с погруженностью в быт и будни.
«В перестройку я с трудом протолкнул в «Неделе» маленькую заметку о маме, и откликнулась дочка Нади Горбуновой, маминой тюремной подруги, которая пропала в сталинских лагерях. Так вот дочка прислала мне письмо. Она ни-че-го не знала про свою мать. Ну не знала — и всё. А мать-то ее (в книжке об этом написано) больше всего боялась, что дети подумают: она действительно шпионка. Признания у нее выбили при пытках, и она ужасно страдала от этого. Я послал дочке Нади Горбуновой главы тогда еще не опубликованной этой книги, где много рассказывается о ее маме. И для нее это было откровением и потрясением, она вообще не знала, куда мама исчезла, что с ней произошло, представляете?»
Постараемся А.М. помочь. Надеемся, в частности, на помощь иркутского «Мемориала». Но сделать это решили через саму Александру Захаровну Васильеву. Ее судьбу и семью.
Итак, жила-была девочка. Ее звали Шурочка Васильева. Она родилась в Москве. В самом начале ХХ века, в 1902 году.
Отец ее — из рабочих — еще до революции уехал на строительство какой-то великой магистрали. И там погиб. А мама работала кухаркой в господском доме. За погибшего мужа получала пенсию. Судя по всему, хорошую: дочь училась в гимназии. Училась, кстати, на одни пятерки. Мама умерла в 1920 году от тифа.

Александра Захаровна Васильева
В 1919 году Шурочка вступает в комсомол. Потом в партию. («Еще в гимназии — и на всю жизнь — увлеклась идеями и сказками утопического коммунизма», — скажет о матери ее сын). Закончит университет имени Свердлова в Москве. (Средь лекторов был Сталин). Любимые философы — Кант и Гегель. Четыре года подряд их штудирует. Когда уже после аспирантуры сама читает лекции по философии в МГУ, ходит в красной косынке и босиком. Босиком — потому что совсем нет туфель. Однажды на лекцию какой-то студент-крестьянин привез ей из деревни сумку картошки. Время было очень голодное. Но Шурочка гневно отказалась от картошки, была так оскорблена! Хотя есть хотелось дико.
Замуж выйдет за Михаила Гарина. Родит ему дочку Маю и сына Августа. (Сына назовет, конечно, в честь Августа Бебеля. О Бебеле — ее кандидатская диссертация). Начинал Михаил Гарин в Луганске. Был там главным редактором главной партийной газеты. Потом главным редактором такой же газеты в Белоруссии. Потом редактором партийной жизни «Правды». Потом редактировал газету «Коммунист» в Киеве. Шурочка в Киеве — директор Института философии.
1935-й год. Отдел кадров ее института берет на работу младшего научного сотрудника, который когда-то (почти десять лет назад) проголосовал за Троцкого — во время внутрипартийной дискуссии. И Шурочку Васильеву обвиняют в том, что она пригрела «троцкиста». Исключают из партии. На партсобрании даже лучшая подруга Лиза Ниринская (десять лет нежнейшей дружбы!) выступает против Шурочки.
Гарин уже не член ЦК Компартии Украины, они уезжают в Иркутск. Он возглавит сначала облоно, потом радиокомитет. А ее не берут ни на какую работу. Все шарахаются. Ни друзей, ни приятелей.
1936-й год. Шурочка и Гарин едут в Москву, пытаются найти правду в Партийной коллегии. Следователь Виноградов говорит с Шурочкой так, будто она «человек конченный». Другим до нее и вовсе дела нет. Шурочка теперь хочет одного: уйти из жизни, сейчас, немедленно, сию минуту. Заходит в магазин, покупает пузырек уксусной эссенции. Пишет два письма. Одно — Сталину, другое — мужу с детьми. Во втором письме просит родных «простить меня… верить в мою партийную честность… завещаю детям стать коммунистами». Врачи спасают Шурочку. В больнице, едва придет в себя, ей скажут: «Сейчас звонили из секретариата товарища Сталина и просили передать, чтобы вы не волновались, все будет хорошо». Сталин лично и дважды звонил в Партийную коллегию по поводу Шурочки. Ее письмо передал ему Серго Орджоникидзе.
Сталин любил и умел играть в кошки-мышки. Шурочке разрешили преподавать в школе. В партии, правда, не сразу, но восстановили.
Август 1937 года. Отдыхать никуда не поехали. У Михаила много работы. Александра на летних каникулах читает (любимое дело!). Не может оторваться от только что вышедшей в русском переводе «Метафизики Аристотеля». Дети — четырнадцатилетняя Мая и пятилетний Август — за городом.
Кругом идут аресты. Александра с Михаилом обсуждают это между собой. Страшно поверить, что в стране так много врагов. Усомниться в приговоре — еще страшнее. Успокаивают себя обычной в то время фразой: нас ведь не арестовывают, значит, что-то за этими людьми есть, в чем-то они виноваты.
Восьмое августа. Теплый ясный день. Александра с Маей уезжают на Байкал. Маленький Август еще с детским садиком на отдыхе. Михаил провожает жену с дочкой.
Целый день бродят по берегу озера. А в ночь на девятое августа Гарина арестовывают. И поздно вечером следующего дня Александра получает записку от соседки по иркутской квартире: «Приезжайте немедленно, дома все узнаете».
На рассвете они вернутся на грузовике домой. И вот, пока они едут в этом рассвете домой, у Александры появляется надежда…
NB! Читатель! Сосредоточьтесь, пожалуйста!
Это одиннадцатая страница книги. Второй абзац сверху. Вторая строка. Никак не выделенная. Будто нечаянно оброненная. Звучит дословно так: «В моей смятенной душе теплилась надежда: может быть, мужа не арестовали, а он внезапно умер /…/ Я любила своего мужа, и все-таки мне казалось, легче перенести его смерть, чем бесчестье семьи врага народа».
Черт побери! Черт побери всю эту компартию, всю эту советскую власть, а заодно любую партию и любую власть, если из-за них, ради них происходило такое в душе женщины. Они шестнадцать лет счастливо женаты. Она верит ему как самой себе. Она знает, что его арест — чудовищная ошибка. И она боится этого ареста больше, чем смерти мужа. У нее «теплится надежда», что он умер.
Знаете, если бы книжка, едва начавшись, закончилась на этой одиннадцатой странице (а впереди еще их триста пятьдесят три), то уже это был бы приговор сталинщине. Будьте прокляты все, кто заставлял надежду теплиться так.
Обыск шел с одиннадцати вечера до полпятого утра. (После одного такого обыска Анна Ахматова сказала: «Теперь надо иметь только пепельницу и плевательницу».) На другой день Александра тщательно убирает квартиру (женщина!), готовит еду, а потом идет в НКВД: добиваться встречи со следователем мужа. Его фамилию прочла в протоколе: Чувашов. Ее не принимают.
Следующим утром Александра опять готовит обед, потом большая стирка. Мая гладит белье. Август все время улыбается и почему-то целует маме руку. Это странно. Он никогда прежде это не делал.
А к двум часам — в НКВД. Легкое платье, белая панамка, маленький дамский портфель.
В приемной — затруднение. Пропуск выписан на Гарину, а ведь она по паспорту Александра Васильева. Ее не пускают, она настаивает. И вот — у цели. Кабинет Чувашова. Она говорит, говорит. Какой у нее замечательный муж, что он ни в чем не виноват. В ответ — молчание. Она говорит, что хочет свидание с ним или передать ему деньги. Опять молчание. Потом Чувашов достает какую-то бумажку, долго рассматривает ее и «бросает слова»: «Вы арестованы».
NB! Ордер на арест был выписан на Гарину. В НКВД даже не знали ее фамилии.
Из разговоров с Августом Михайловичем Гариным: «Так вот: о том, чего нет в маминой книге. Первое: за что арестовали моего отца в 1937 году. Или точнее: что ему «приписали».
В один день утром по радио передали, что Томский (тогдашний председатель ВЦСПС, бухаринский сподвижник), «запутавшись в своих контрреволюционных связях, застрелился». Это сообщение было утром. А вечером же по тому радио началась программа, утвержденная два месяца назад. Звучали любимые песни Ильича. В смысле: Ленина. В том числе исполнили «Замучен тяжелой неволей». И вот связали утреннее сообщение о Томском с песней «Замучен тяжелой неволей». Происки врагов! А раз отец возглавлял радиокомитет — нашли «виноватого».
Я хорошо помню то лето. Мне пять лет. Я смышленный мальчик. Уже умею читать. Папа организовывает в Иркутске первые спектакли. Ищет везде таланты, привозит певцов из Москвы. Ставит «Паяцы», «Евгения Онегина». Все это в абсолютную новинку, в диковинку не только для меня, но и для всего Иркутска. Впервые там люди смотрят и слушают оперу. Я сижу за кулисами, на сцене. И все запоминаю наизусть.
В тот день, когда мама пошла в НКВД выручать папу (я об этом узнал много лет спустя), она оставила нас у соседей. За нами чуть позже должна была зайти наша домработница Агаша. Славная была женщина. Агаше нас не отдали. Сразу отвезли в детдом.
Я был маленький. Ничего не понимал. Помню только, что сразу стала очень заметной разница в еде. Все было невкусно. А моя старшая сестра в свои четырнадцать лет уже все понимала. И все время плакала.

Мая и Август
Через несколько месяцев нас с Маей забрала к себе в Одессу тетя Фаня, сестра папы. Нет, это не был акт милосердия, просто детдома переполнились. У тети Фани своих трое детей. И мужа-агронома сначала взяли в НКВД, а потом до смерти забили в одесской тюрьме».
Иркутская тюрьма. Построена еще во времена (для?) декабристов. Цементный щербатый пол грязного цвета. Все стены в выбоинах. Маленькое — под самым потолком — окно. Мало того что зарешеченное, так еще и снаружи забито деревянным щитом. Чтоб даже полоски света и неба не осталось!
При декабристах и позже камера была рассчитана на двоих узников. Когда Васильева пришла сюда, там сидели четырнадцать, потом двадцать восемь, потом ее перевели в камеру, где было восемьдесят пять человек.
Шура остановилась на пороге. В руках у нее только носовой платок. Маленький дамский портфель остался у следователя.
Из книги Александры Васильевой «Моя Голгофа»: «Настала ночь. Первая страшная ночь в тюрьме. Вряд ли есть на земле человек, который бы свою первую ночь в заключении спал. <…> Вытаскиваем доски из-под нар, закладываем ими проход. Теперь вся наша камера — сплошные нары. <…> Страж предупреждает: «Лицом ко мне, головы не закрывать». Свет горит всю ночь. <…> Я как в бреду. Мысли бешено скачут, я их не могу привести в порядок. Всплывают образы детей, и так безумно жаль их, тревожно за них. Кто приютит их? <…> Из коридора все время доносится шум. <…> «Эй, ты там, возле окна, открой голову». За ночь эту реплику наш охранник произносит много раз почти у каждой двери. Боятся они, что ли, что мы убежим из-под десятка замков или незаметно покончим с собой? Или так уж заведено из века в век среди тюремщиков — ежеминутно терзать узников, делать их жизнь еще более невыносимой, как будто тюрьма сама по себе не есть самое жестокое наказание для человека».
В камере нельзя: шить, вязать, во что-либо играть, громко разговаривать, петь. Днем никто не имеет права прилечь, даже прислониться к стенке, задремать. «Сидеть как штыки», — кричат охранники. Ни книг, ни газет, ни свиданий.
Две недели Александра ждала вызова. Ее не вызывали. В какой-то момент ей показалось, что она сходит с ума.
Из «Моей Голгофы»: «Перед этим новым страхом потерять рассудок, кажется, впервые за эти дни мне в голову пришли разумные мысли. Нет, нет, я не должна пасть ниц под тяжестью своего несчастья, оно раздавит меня насмерть, если я не противопоставлю ему свою волю и разум. Отныне, решаю, буду съедать весь арестантский паек, бороться с угрюмым настроением, давать отдых своим истерзанным нервам».
Первый допрос — через две недели. Второй — через полгода. Никаких обвинений, никаких фактов. «Мы все равно все знаем, а для тебя лучше сказать все самой». Следователь Чувашов очень груб. Мат, перемат, побои, издевательства.
В шесть часов подъем. Завтрак только в девять утра.
Завтрак: пайка хлеба в 600 граммов и черпак теплой пустой воды. Иногда вечером дают по спичечной коробке сахарного песку на два дня, но это нерегулярно. Обед: черпак жидкой крупяной воды. Ужин: щи из гнилой капусты.
Сестра мужа Фаня, когда забирала Маю и Августа себе в Одессу, передала Александре мешок с вещами и узелок с едой: десять луковиц, несколько головок чеснока и два больших яблока. Запах чеснока напоминал колбасу. Чеснок в их камере вообще прозвали арестантской колбасой.
Из камеры два пути: на допрос и раз в десять дней в баню. Баня обязательно среди ночи, за счет сна. Тюремщик следил за женщинами и когда они мылись. Еще одно унижение. Причем кому-то из тюремщиков не по себе от этого, а кто-то злобствует, вырывает тазы, если женщины пытаются что-то себе постирать. (Стирать не разрешали, вещи прожаривали в «вошебойке».) С водой — напряженка. Женщины стирают украдкой в мисочках для еды.
Частые обыски в камере, все отбирают, а они все равно прячут иголки, пуговицы, крючки. Шьют украдкой, вышивают. Рассказывают друг другу романы, пьесы, фильмы. Играют в шашки и шахматы. Фигурки для игры лепили из мякоти хлеба, белили разведенным зубным порошком.
Из разговоров с А.М.: «У тетки в Одессе нам жилось хорошо. Еще жива была бабушка — папина мама. Она меня больше всех своих внуков любила. О маме мне сказали, что она поехала к папе на Северный полюс.
Я был очень хулиганистым. Прибегал из школы в первом классе и кричал радостно: «Тетя! У меня всего две «двойки»: по русскому и по арифметике». Мог залезть на третий этаж по трубе. В эвакуации в Ташкенте убегал на войну. Меня постоянно снимали с поезда. Мне десять лет. Я рвался воевать.
Помню, что в войну мы уже вовсю получали письма от мамы. Она была так счастлива, что нашла нас. А я все еще не очень понимал, где она, что с ней случилось.
Мама очень боялась, что дети ее поверят: она шпионка. Но я-то знал, что она настоящей была большевичкой».
Иркутская тюрьма набита до отказа. Переполненные «параши» стоят по камерам: проблемы с вывозом нечистот (канализации нет, цистерн не хватает). Жесткое ограничение в воде.
В тюрьме, рассчитанной на тысячу заключенных, находится четырнадцать тысяч человек. Даже в бывшей тюремной церкви все застроили нарами в несколько этажей и разместили там восемьсот узников.
А с воли доносится: аресты идут и идут. Кто-то тогда сказал: «Раньше это была лотерея, а теперь очередь».
«Психологические методы допроса» сменяются «упрощенным допросом»: просто бьют и пытают.
Два года проведет Шурочка в тюрьме. Допросы, побои, издевательства, карцеры. Не подписала ни одного протокола — ни против себя, ни тем более против других. Это в то время, когда «протоколы» сплошь и рядом сочиняли и следователи, и сами арестанты. Было даже среди заключенных выражение «пишу роман». Самые предусмотрительные придумывали себе такие проступки, от которых в будущем, если оно настанет, — легче будет отказаться. Боялась ли она? Боялась. Потому что никто не знает заранее, как будет себя вести в нечеловеческих условиях. А вдруг она такого наговорит — ладно на себя, а то ведь на других. И по ее списку будут брать, и брать, и брать.
Теперь — об отдельных людях, которые и в аду оставались людьми.
Но прежде — маленькое отступление.
Не в Иркутске, но в это же время одна женщина, которой прокурор сказал, что она может вторично выйти замуж (так иногда в виде особой милости сообщали о расстреле, гибели или другой форме уничтожения мужа) ответила: «Я с мертвыми не развожусь».
Так вот: о тех женщинах, которые даже под пытками не разводились ни с мертвыми, ни с живыми. Ни с мужьями, ни с совестью.
Однажды к ним в камеру посадили целую библиотеку. Это была врач Валерия Александровна Флоренсова. Беспартийная. Не замужем. Дома осталась старенькая мама, которой она сказала на прощание: «Считай меня в длительной командировке». И — любимый рояль, который, уходя, погладила. Валерия читала — слово в слово! — сокамерницам Тургенева. А потом также наизусть всего Пушкина и всего Лермонтова. И Некрасова, и Надсона, и Блока. Александра и Валерия очень сильно подружились. Флоренсову продержали в тюрьме под следствием два года и в начале 1940 года отпустили домой.
Еще одна подруга — Надя Горбунова. Член партии с начала революции, второй секретарь горкома ВКП(б). Похожа на Джоконду. Добрая, открытая, откровенная. Она тоже прошла через «конвейер», только не стоячий, а сидячий. Несколько суток сидела на покореженном венском стуле, не имея права даже прислониться к его спинке. Ей устраивали очные ставки с партийцами, они обличали ее. («Это были не люди, а тени с потухшими глазами»). Надя не сдавалась. Молчала. Следователи бесились. Однажды они сделали рупоры из бумаги, приставили их к ее ушам и сразу с двух сторон громко кричали: «Давай показания, давай показания!» Они повредили ей барабанную перепонку, Надя перестала слышать. Она была вконец измучена. Жизнь стала недорога. Но на воле оставались двое детей — сын и дочь, студенты. И следователь сказал ей: «Не дашь показаний, возьмем твоих детей». Эта угроза сломала ее. Она подписала протокол. Возвела на себя клевету. Но только на себя. Когда потребовали от нее показаний, кого она привлекла в свою организацию, уже не удалось выбить из нее ни единого слова.
По ночам Надя исповедовалась перед Александрой: «Если останусь жива, никогда не объявлюсь детям, пусть считают, что меня нет в живых». Ей было безумно стыдно перед детьми, что она «собственноручно навлекла на себя бесчестье». Но утром Надя была, как всегда, спокойная, внимательная и добрая ко всем. Рассказывала о красноярских Столбах — горах-заповедниках, которые она исходила вдоль и поперек еще в молодости.
Осенью 1938 года Надю Горбунову, Лизу Тавровскую и Риву Бравую внезапно, без вещей, вызвали из камеры. Через три дня забрали их вещи. Потом дошла весть, что Горбуновой и Тавровской вынесли смертные приговоры. О Бравой никто ничего не знал.
Второй год Александра Васильева за решеткой. Ничего не знает о своих детях, о муже. Население камеры редеет: одних отправляют отбывать срок, других — на тот свет.
И вот появляется в камере Тося Кустова. В первый же вечер начинает пересказывать роман Диккенса «Дэвид Копперфильд». Сидит на полу. Молодая полная женщина. Серые яркие глаза. Широкие брови вразлет. Две короткие толстые косы, перевязанные тряпочками. На воле остались трое детей: два сына и девочка. Она недавно вышла замуж во второй раз. За человека, на которого мало надеялась: «Запьет без меня, забросит дом».
Раз в месяц ее дети приходят все вместе к тюрьме, приносят передачу, часами простаивают у ворот, глядят на глухо закрытые окна тюрьмы в надежде увидеть маму. Об этом рассказывает солдат, что доставляет свертки и узелки. За добрый нрав арестантки прозвали его архангелом. Он шепчет Тосе: твои опять тут, что передать? Очень сильная Тося те дни плачет навзрыд.
Родилась Тося в бедной крестьянской семье. Ей было 16 лет, когда мачеха выгнала из дома. Шел 1920 год. Тося подалась в военкомат: возьмите на фронт. Воевала на Гражданке. Как парень. Еще в военкомате остригли наголо, одели в брюки, научили стрелять («Гусарская баллада» отдыхает). На фронте встретила командира Федора Кустова. Случился роман.
После войны столкнулись с Кустовым на какой-то конференции, сильные чувства вернулись. Прочно поженились. Трое детей. Счастье, счастье! А потом вдруг Федор умирает. Осталась с тремя детьми. Но не растерялась. В партию не вступила, однако сделала блестящую карьеру хозяйственника. Накануне ареста руководила всеми буфетами и столовыми Иркутска.
Шумная, неунывающая, искренняя Тося в камере и утешить могла, и отругать. Половину своего шерстяного одеяла раскроила на куски, из которых мастерила комнатные туфли. Сошьет, вышьет узорами — и дарит женщинам.
Часто устраивала со следователями перепалки. Мало того что в ни чем не признавалась, так еще и крыла их на всю ивановскую! За строптивый нрав Тосю целый год не вызывали на допросы.
1 марта 1939 года Тосе исполнилось в тюрьме 35 лет. «Товарки» приготовили ей торт. Из размоченных в сладкой воде черных сухарей. Сочинили стихи. И вышили эти стихи на белом лоскуте золотистыми нитками. Тося зашила этот лоскуток под подкладку своего зимнего пальто.
В июне 1939 года Тосю освободили. Через десять дней она уже передала в свою камеру передачу. Белье, одежда, много чесноку, лука, редьки. Тося нашла в Одессе детей Александры, связала их с ней. Потом отыскала Гарина.
Тося Кустова не пропала, опять сделала себе карьеру: стала директором швейной фабрики. С Васильевой они дружили, переписывались и встречались до конца жизни Шурочки.
Из разговоров с А.М.: «Тося Кустова была у нас в гостях. Я ее видел. А дочь Тоси Кустова, кажется, военный инженер, полковник. Я попросил мою племянницу Катю, дочь Маи, найти ее. Катя — врач».
Страшная история про Полину Безпрозванных. Красивая девушка. Выросла на берегу Байкала, в рыбацкой семье, сама стала рыбачкой. Потом работа в комсомоле, была секретарем Иркутского обкома комсомола. Ей всего 24 года.
Привезли в НКВД прямо из дома. И сразу поставили на многосуточный «конвейер». Она отказывалась что-либо признать, спорила. Били. Приставили к виску пистолет. Зажали в пальцах ручку и вывели на протоколе ее подпись. (Полина — потомок сибирских декабристов. Горькая ирония судьбы!)
Не спала много дней подряд. И стала сходить с ума. Вскакивала с нар. Пыталась куда-то бежать. Полностью лишилась рассудка. Женщины уговаривали надзирателя забрать ее в тюремную больницу. Трое суток не брали. Александра успокаивала подругу, как могла. Полина то смеялась, то плакала. В какие-то мгновения приходила в себя и пела дивные забайкальские песни, которые сочинил когда-то ее дядя.
Безумие накрывало ее, потом отступало. Трижды забирали Полину в тюремную больницу. Лечили холодными ваннами и порошками. Но безумие все возвращалось и возвращалось.
Как-то ее внезапно забрали. За узелком пришли позже. Со двора, через окно долетел в камеру молодой мужской голос: «Безпрозванных дали десять лет лагерей!». Не пощадили даже безумную.
Александра Васильева пренебрегла правом и обыкновением каждого мемуариста быть собственным — и единственным — положительным героем. Странно, но ее самой в этой книге не так уж много. Других людей — гораздо больше.
Увы, газетная площадь не позволяет мне рассказать о всех женщинах, которых она встретила в тюрьме и лагерях.
Я ищу их по страницам книги, выписываю друг за дружкой: Цицилия Шейнина (она же Любовь Разумова), Аида Дрейзеншток, Рива Бравая, Михайлова, Соня Эдельштейн, Дора Энштейн, Белла Якубовская, Лиза Тавровская, Елизавета Бер¬нардовна Гейндрих, Мария Загер, Анна Игнатьевна Трусевич, Евдокия Филлиповна Пестун, Мария Евсеевна Шифрис, Маша Гольдберг, Эстер Фрумкина, Фарида Салам-Задэ, Рая Волынская, Лена Якубович, Зина Масленникова, Клара Крумгольц, Рая Свидерская, Вера Александрова, Донна Груз, Марианна Герасимова, Татьяна Калиновская…
Родственники! Я собрала «до кучи» эти имена, отчества, фамилии специально для вас. Если кто прочтет — откликнитесь. Вам надо обязательно прочитать «Мою Голгофу» Александры Васильевой. Наверняка найдете там о своей маме (бабушке, прабабушке) что-то для себя новое, неизвестное.
Да! Это только самых главных героинь — двадцать шесть. А еще много женщин просто с именами, а то и совсем без имен. Но чуть ли не о каждой — маленькая новелла. Без каких-либо беллетристических претензий. Почти без прилагательных. Но хорошим литературным слогом.
NB! Не все сокамерницы и солагерницы были ангелами. И стукачки встречались, и просто злобные, вздорные бабы, и абсолютно коварные уголовницы. С кем-то Александра сильно подружилась, с кем-то отношения не сложились. Но описывает она их всех — даже самых неприятных — спокойно, без экзальтации, без раздраженного самолюбия, без сведения счетов, даже без горечи. И вправду — ученый, философ. Не плакать, не негодовать: понимать. (И даже обилие коммунистической риторики не кажется чрезмерным. Ну, была, ну, осталась настоящей большевичкой — и что? Это тот редкий случай, когда ударное слово — прилагательное, а не существительное.)
Александра Васильева ни в чем не признавала свою вину. Отвергла абсолютно все наветы. Несмотря на пытки и насилия. Ее «секретное дело» с пометкой «хранить вечно» — пустое.
Она подписывала только «отрицательные протоколы», то есть отрицающие обвинения свои ответы или такие, как «участвовала ли в дискуссиях?», ну, да, участвовала.
Следователь Гонтаренко орет на нее, матерится, избивает, она теряет сознание, падает в обморок. И что при этом чувствует? Вот ее признание в книге: «Я счастлива, что наконец на бумаге значится мое «нет».
Быть счастливой своим «нет», отрицательным протоколом. И — дальше: «Это здорово, что-то новое, какой-то добрый знак!».
После двух лет тюрьмы получает свой лагерный срок: пять лет. Тюрьма в срок входит. Значит, осталось три года. На самом деле впереди — не просто лагерь, а война, автоматическое и никак и никем не объясненное продление срока. Но она пока об этом не знает. И едет в лагерь. В Казахстан, глухое село.
В лагере больше всего мечтает о телогрейке и башмаках. Сама одета как нищенка. Юбка, пальто в заплатах, на ногах — широкие чуни. Чулок нет давно — ноги оборачивает тряпьем. Воды не хватает. Умываться приходится снегом.
Из Одессы приходит посылка: рыбий жир, кусок сала, сахар, махорка. Махорку можно выменять на хлеб. Но она не может у голодных выменивать хлеб. Раздает махорку просто так. Оставляет одну пачку. Приятельница собирается отыскать с помощью табака украденную у нее шерстяную кофточку. Но в первый же день махорку стырят уголовницы.
Летом жара +38оС. А зимой морозы, за сорок ниже нуля.
Смерть здесь — частный гость. Мертвых зимой не хоронят, складывают до весны в штабель у больничной стены. От ветра из сугроба обнажаются чьи-то руки, ноги. Люди в лагерях гибнут тысячами.
В лагере она впервые за три года получает право послать письмо родным.
Новые товарки — почти все уголовницы. Работают на стройке. Строят в лагере прежде всего карцеры. Никаких грузовых машин, никаких технических приспособлений. Кирка, железный лом, лопата, носилки, тачка. Все — на себе.
Захворала. А потом ослепла. Спасал добрая душа, врач Александр Пантелеймонович. Потом сельхозработы. Попа¬дала в бураны, в наводнения, дважды умирала. Ее вот-вот должны были отпустить, но началась война, и она сама себе сказала: «Отложи об этом попечение — теперь не до тебя».
Как-то на полевом стане принимала роды у овец. Как хирург, тщательно мыла руки, потом запускала их в овечью утробу… Все, как правило, кончалось удачно. Но однажды стадо заразилось бруцеллезом, и Александра — тоже. Ведь ела, спала, дышала одним воздухом с ними, принимала голыми руками ягнят. Все лето ее ломило, температура 380, но была на ногах, работала, как все.
Организм вроде бы как-то сам переборол болезнь. Но она не знала тогда всего коварства этой болезни. Бруцеллезные бактерии могут долго жить в организме, почти незаметно производить там свою разрушительную работу. И только со временем нанести человеку сокрушительный удар.
Из разговоров с А.М.: «Отца освободили в 1946-м. На год раньше мамы. Отец забрал меня у тетки, и мы с ним вдвоем жили в Кувшинове Смоленской области. Он не имел права жить в Москве, минус еще все крупные города. Я учился в восьмом классе. Потом вернулась мама. Мне сообщили, что мама в Москве. Я поехал к ней. Помню, зашел в чью-то квартиру, там сидели три женщины. Мама очень боялась, что я ее не узнаю. Но я узнал сразу. Шагнул к ней. Мы не виделись ровно десять лет. Мне было пять, когда ее арестовали, а теперь — пятнадцать.
Мая к тому времени окончила медицинский институт и служила в Германии. Мы год жили в Кувшинове втроем — мама, папа и я.
Я хотел стать летчиком. Мечтал о карьере военного. Но родители рекомендовали мне медицинский. Сказали: «Если тебя посадят — пригодится». Они не исключали такой вариант.
Кстати, в Кувшинове отец работал зубным техником (он эту специальность приобрел в лагере). Мы жили при больнице.
Вдруг пришел человек и сказал отцу: вас вызывает главный врач. Отец пошел. А в это время забрали мать. Не хотели брать обоих сразу вместе. Отца взяли там, у главврача, а мать — дома… Маму арестовывали при мне. Я видел это впервые в жизни.
Я переходил тогда в десятый класс. И, знаете, они даже здесь так по-изуверски поступили: не просто порознь взяли родителей, но и дальше — через несколько месяцев тюрьмы — послали их на поселение в разные места. Его — в Казахстан. А ее — на лесоповал, в Красноярский край. И понадобилось им несколько лет, чтобы доказать?(!), что они — муж и жена, и добиться, чтобы свою бессрочную (!!!) ссылку они отбывали вместе в Казахстане.
Вот как! Ну, высылаете в ссылку, что вам стоит выслать вместе? Мужа и жену… Мама на лесоповале года два лес рубила. Это была жутко тяжелая работа. А потом переехала к отцу, он опять работал в лагере зубным техником. Это был Казахстан, Джамбульская область, Чуйский район, село Новотроицкое.
Родители там формально находились на свободе. Да, им нельзя было выйти за пределы этого села. Но мы им систематически писали. И не только им. Мы с Маей все время писали во все вышестоящие инстанции. Что они там незаслуженно находятся и т.д.
Я поступил сначала в Одесский мед, а потом перевелся из Одессы в Алма-Ату, чтобы быть поближе к родителям. И часто туда к ним приезжал. С 1950 по 1955-й годы все каникулы у них проводил. А моя сестра Мая даже замуж там вышла — на поселении у родителей. Она приехала к ним и познакомилась с одним ссыльным. Он бывший комсомольский работник. Его отца — известного киносценариста — посадили. А потом — и его. Он жил на поселении вместе со своей матерью».
Мая родила двоих детей. Дочь сейчас живет в Москве. А сын — компьютерщик, работает по контракту в Америке. У Маи — трое внуков. А у Августа — сын.
Мая умерла два года назад. От рака печени. (А.М.: «Я сколько мог тянул, продлевал ее жизнь.)
В 1955-м Август Гарин закончил мединститут. Уехал на целину в Западный Казахстан, работал там зав¬раймедотделом и районным хирургом. И в том же году реабилитировали его родителей.
Из разговоров с А.М.: «Мама пишет в книге, как она у овец принимала роды и заболела бруцеллезом. А в 1953 году ее парализовало. У нее было воспаление спинного мозга. Бруцеллезный миэлит. И вот она, парализованная, еще два года оставалась в лагере. На костылях, еле-еле ходила».
NB! Парализованную женщину два года держат в ссылке! Не выпускают, не освобождают, не делают никаких поблажек. И дальше бы держали, если бы не умер Сталин.
Из разговоров с А.М.: «Мама уже там, в лагере, все поняла про Сталина. И стала антисталинисткой. Хотя в Ленина тем не менее верила до конца. Считала, что Сталин извратил его идеи.
Так вот: о Сталине. Был такой очень известный патологоанатом Раппопорт. Он говорил о Сталине: «В моей жизни было два самых счастливых момента: когда его внесли в Мавзолей и когда вынесли». Раппопорт проходил по «делу врачей». Был арестован. И выпущен только после смерти Сталина.
Мама это мнение Раппопорта разделяла. К Хрущеву относилась нормально. А к Брежневу — скептически».
Август Михайлович Гарин стал известным врачом-онкологом. Пятьдесят один год — в Онкологическом центре. Сейчас главный научный сотрудник, а был замдиректора. Четыре с половиной года работал в Женеве, заведовал отделением рака Всемирной организации здравоохранения. Много путешествовал по миру. Больше пятидесяти раз был в США. И везде в Европе. А.М. — доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, лауреат Государственной премии.
После возвращения из лагеря Михаил Гарин вернулся в «Известия». И работал там до самой смерти в 1980-м году. Александра Васильева умерла в 1968 году.
Она прожила шестьдесят пять лет. Первые пятнадцать — в дореволюционной России: ранняя смерть отца, мама — кухарка, спит с ней в конуре под лестнице господского дома; нужда, унижения. Следующие пять лет: революция, Гражданская война, голод, разруха, комсомол, партия, учеба в университете. Следующие пятнадцать лет: замужество, рождение детей, увлечение философией, карьерный рост мужа, собственная воля к реализации, много работы, много счастья, много радости («Я, дочка судомойки, стала профессором философии!»); начало страха, аресты кругом. Следующие восемнадцать лет — тюрьмы и сталинские лагеря; не просто выжила, осталась человеком, «беспримесно чистым», добрым, доверчивым, открытым, веселым. Следующие тринадцать лет: муж рядом, дети, внуки, десять лет пишет книгу, с какой стати она должна молчать? Передвигается на костылях, но никакого нытья, активна, деятельна, жизнерадостна; опять много книг, людей, и радости новых встреч и новых сближений; лучше всех собирает (упираясь на костыль) грибы; просто жизнь, ада нет, «все исполнилось, как рассудил Господь».
Я спросила А.М., как его родителям удалось все выдержать. Сын ответил сразу: «Они были сильные люди».
И тут я опять вспомнила Надежду Яковлевну Мандельштам. Она говорила: кое-что посмертное надо обязательно регулировать при жизни. Ее книга «Об Ахматовой» заканчивается так: «А все-таки мы устояли и сделали все, что могли. Спасибо и за это, что хватило сил и стойкости».
Спасибо.
Зинаида Ерошок