












Александр Дионисиади. История моей семьи (автобиографическая драма понтийского грека)
(публикуется с сокращениями, только часть, относящаяся к тематике нашегосайта. Полный текст находится тут: https://play.google.com/store/books/details?id=06qGDQAAQBAJ
Эту книгу я начал писать в конце восьмидесятых годов, вдохновленный пресловутой перестройкой и ослепленный чрезмерным оптимизмом.
Адресовал я ее своим внукам, чтобы Историю начинали изучать с Истории своей семьи, и с малых лет не очень доверялись школьным учебникам, которые во всех странах очень тенденциозны, а в странах с авторитарными и тоталитарными режимами просто лживы. Сам я слишком поздно понял, что режим, установленный в Российской Империи после Октябрьского переворота 1917 года, по сути, был террористическим.
Понял я и то, что отца моего, как и миллионы других образованных людей, на многие годы вырвали из семьи не только для того, чтобы он бесплатно работал на режим, но и, главным образом, чтоб не мешал деформировать мозги его потомству с самого раннего детства, пока они еще как пластилин восприимчивы любому воздействию.
Преданные Вождю «янычары» нужны во все времена. Это его пушечное мясо, которое он будет миллионами кидать в мясорубку Мировой Революции. Это у Режима получилось особенно успешно. До сих пор миллионы людей еще тоскуют по барской плети, а вчерашний холоп, ставший барином, буквально, упивается своей жестокостью. Я сам все это пережил и хотел поведать об этом своим детям и внукам.
Пенсию я заработал максимальную, но мой средний заработок последних лет был ровно втрое выше, а тут настигла и галопирующая инфляция. Я понял, что ограблен снова, снова надо выживать и тут не до мемуаров.
Спустя двадцать лет, попались мне под руку мои заметки. Почерк жуткий, непронумерованные страницы перепутаны. Вспомнил пережитое, рассердился на себя, что так дешево купился на посулы «демократов», и хотел все уничтожить. Какой же я был дурак!
Жена моего племянника - этнограф. Попросила почитать. Ну, читай, если разберешь мои каракули. А она не только прочла, но и напечатала, и даже уговорила меня выкладывать на мою страницу в Фэйсбуке. Незнакомый мне блогер из греков-понтийцев Алексей Коимшиди стал перепечатывать мои публикации у себя в Живом журнале, а у него подписчиков больше тысячи. Пошли очень горячие отклики. Значит, это людям интересно. Я очень рад. Потом главный редактор газеты «Вечерний Тбилиси» Вадим Анастасиади стал публиковать под заголовком «Понтийская Сага».
Претенциозность заголовка меня смущает, но он убедил что формат газеты того требует. Дописал еще две части.
Внуки мои уже повзрослели, образование получили. Впереди вся очень не простая жизнь. Передавая «эстафету жизни», уверен, что мой жизненный опыт пригодится и им и их потомству. Очень боюсь повторения ими моих ошибок, а потому предельно откровенен. Пусть узнают жизнь без прикрас. Я тоже не «белый и пушистый». Правду жизни и историю страны лучше узнать от своего не безгрешного предка, чем от учителей казенных школ, которые учат не лгать, а сами лгут, учат не мздоимствовать, а сами вымогают взятки. А уж, как воруют голоса избирателей при выборах различных депутатов, каждый старшеклассник знает. Хлеб редких «педагогов от Бога» очень не легок, и мы их запоминаем на всю жизнь, а светлую память о них, храним в душе до самой смерти.
И, наконец, последнее. Пусть не шокирует читателя моя чрезмерная откровенность. Это не «душевный стриптиз», не «самобичевание», это – неприкрашенная, правда жизни. Цензуру полностью доверяю редакции моего Издателя и заявляю, на лавры писателя не претендую. Это - не литература. Это - крик моей души, Исповедь, Покаяние и Завет потомкам. И только Бог мне Судья.
<...>
Ах Тбилиси, Тбилиси – моя милая «чужая» родина. Часами любовался я тобой, сидя на широченном подоконнике нашей квартиры на северной нагорной окраине старого города. Заворожено смотрел на развалины древней крепости Нарикала, рисуя в своем воображении картины былых сражений, наблюдал за фуникулером горы Мтацминда (Святая гора) на южной окраине древнего города, в 3-4-х километрах от моего дома на Чугуретской улице. Уже не осталось ни названия моей родной улицы, ни ее обитателей, которые щедро делились со мной и моими братьями в самые тяжелые для нас годы не только своими душевным теплом, но и последним куском хлеба. Грезя бессонными ночами о возвращении в Тбилиси, с ужасом осознаю, что это теперь вряд ли возможно: мое кое-как заштопанное недавно сердце не выдержит той очевидности, что нет уже родного города моего детства. Но прочь лирические отступления.
Переехав в 1927 году в тогда еще Тифлис, отец устроился прорабом в строительной артели, состоящей из понтийских греков, славившихся каменотесными и строительными работами. И одновременно учился, сначала в техникуме, а затем, с 1931 по 1936 гг., в Политехническом институте, который к окончанию учебы отца переименовали в Закавказский индустриальный институт. Сейчас это Грузинский технический университет, ведущий и крупнейший технический университет Грузии.
Как-то раз компаньон отца в строительном деле ввел его в дом большой семьи Арутюновых. Это событие стало судьбоносным для отца. Здесь он познакомился с моей будущей матерью Евгенией Петровной Арутюновой. Она была самой младшей дочерью в большой патриархальной семье состоятельных и довольно образованных тбилисских армян.
Отец матери, Петрос Арутюнов, занимался выработкой и продажей кожи. А бабушка была из рода Ходжабековых. Я не знаю генеалогическое древо семьи моей бабушки, но история фамилии Ходжабековых сама по себе очень интересна и переносит нас совсем в другой регион – в Среднюю Азию, в Бухарский Эмират, куда некогда были вытеснены принявшие Иудаизм богатейшие племена Хазарского Каганата.
Фамилия купцов Ходжабековых числилась среди богатейших фамилий бухарских евреев. Надо сказать, что бухарские евреи издавна контролировали торговлю в Средней Азии. В свое время в их руках была не малая доля торговли на Великом Шелковом Пути. В XIX веке они играли важную роль в торговых взаимоотношениях между Бухарским Эмиратом и окружающим миром. В частности с Россией. Со своими караванами они ходили в Россию, Западную Европу, Иран, Турцию и Палестину. Эмиры часто пользовались их услугами, приближали наиболее выдающихся из них, назначая министрами и советниками, некоторым давали имена-звания, и это считалось высочайшей милостью. Так, по преданию, одному своему советнику из евреев бухарский эмир дал почетный титул Ходжа Бек. Бек – господин, а Ходжа означает «обладающий большими знаниями, наставник, учитель». С него началась фамилия Ходжабековы.
Моя бабушка Мария Соломоновна Ходжабекова (домашние ее звали Мака), живя в Тифлисе, приняв крещение и став Арутюновой, тем не менее, сохраняла некоторые традиции предков, например, не ела свинину. Ее отец, мой прадед, Соломон Ходжабеков скорее всего тоже жил уже в Грузии, но как и его предки, был успешным и богатым купцом, возил товары в разные страны. Однажды во время торговой экспедиции на него напали разбойники, и Соломон трагически погиб. Моей бабушке Марии было тогда всего 14 лет, но по тем временам вполне зрелый возраст, и ее родственники выдали ее замуж за не очень состоятельного, но очень добропорядочного предпринимателя с безупречной репутацией Петроса Арутюнова. После женитьбы Петрос разбогател. Скорее всего, вместе с юной женой он получил хорошее приданое. У Петроса было два предприятия по выработке кож и производству кожаных изделий. Одно в Тбилиси, другое в Кутаиси (говорят, оно работает до сих пор). Помимо этого были склады оптовой и розничной торговли, магазины и т.п.
До советской власти у деда с бабушкой был особняк в центре старого города, а на тогдашней окраине старого города, над крутым обрывом армянского района Авлабар, на Цициановской ул., он построил большой (по тем временам) 2-х этажный дом с просторными погребами, которые были полны вин и всякой снеди. Даже в летний зной они давали спасительную прохладу.
Я с малых лет был наслышан о пригоршнях золотых монет, которые были брошены под четыре угла фундамента при начале строительства, чтобы дом крепко стоял, и жизнь в нем была бы счастливой. И впрямь, дом до сих пор стоит на самом краю обрывистой скалы, откуда как на ладони виден весь старый город и река Кура. Только никто уже из потомков деда там не живет. В этом доме, в просторной комнате моего старшего дяди, прошла немалая часть и моего детства. В комнате напротив жил его младший брат. Помню, как по праздникам там собиралась вся большая семья. Еще из воспоминаний детства остался железный узорчатый балкон, куда в летнюю жару выставляли таз с водой, вода быстро нагревалась, и я плескался там часами.
Петрос скончался от удушья угарным газом в 1910 году, когда моя мама была еще совсем маленькой. После себя он оставил 7 детей. До сих пор не могу понять, как в одной семье могут вырасти и очень дружно жить такие разные люди…
Старший Арташ (Арутюн) пошел в отца и был прирожденным предпринимателем. Вплоть до прихода советской власти он вел все коммерческие дела семьи. После того, как большевики все отобрали, не гнушался никакой работой: от нелегальной торговли на базаре шашлыком, который сам же готовил на компактном мангале, и до освоения ремесла классного переплетчика. Дожил почти до 90 лет, а в 85 плясал на столе ресторана Арагви на свадьбе моего старшего брата Лазаря. Вот бы мне так…
Второй Гарегин – гордость всей семьи, учился в Санкт-Петербурге и служил офицером царской гвардии, но заболев чахоткой, был вынужден вернуться в Тифлис. Большевики его не расстреляли, видимо, потому, что он и так уже умирал, а может ради младшего брата Александра.
Дядя Саша был не просто активным членом партии, он был одним из создателей пионерской организации Грузии. До развала Советского Союза его имя занимало почетное место в местном краеведческом музее.
Будучи номенклатурным партийцем, занимал руководящие должности – директор стекольного завода, суконной фабрики, армянского драматического театра и т.д. Помню, что в те времена у него была персональная машина – эмка. Тогда это было большой редкостью.
И все же большой партийной карьеры он не сделал. В связи с этим вспоминаю историю, много раз слышанную от родственников. Друг детства дяди Саши Жора Цатуров был начальником ОГПУ какого-то райцентра (еще до массовых репрессий) и пригласил к себе на службу своего друга – дядю Сашу, оказавшегося временно не у дел. Тот приступил к новым обязанностям. Но в один из первых дней службы Цатуров протянул ему наган и, показав на какого-то мужчину, велел отвести его во двор и расстрелять. Мой дядя, чистейшей души человек, бесконечно добрый, про такого говорят, что он и мухи не обидит, пришел в ярость. Обругав последними словами своего друга-начальника, он повернулся, чтобы уйти, но был тут же посажен под арест. Друг-начальник решил, что это отрезвит дядю Сашу, и он одумается. Жена ретивого начальника несколько дней носила ему еду, поливая при этом последними словами своего мужа-самодура. Цатуров сдался, выпустил дядю Сашу, сказав ему: «Извини, дорогой, хотел тебя большим человеком сделать, но ты, видимо, не годишься для этого, слишком мягкий».
Действительно, он не годился этой системе насилия и бесправия. Его постоянно теснили, какую бы должность он не занимал. Умер он в 85 лет с чистой совестью, умер Человеком с большой буквы, умер смертью святого человека. Он приехал в Тбилиси встретить Новый 1986 год. Из Тбилиси позвонил нам в Москву, был весел, воодушевлен встречей с друзьями. Через пятнадцать минут после звонка он присел на диван опершись на свою трость и умер.
Младший из братьев – Левон – был лихим парнем. Гуляка, драчун, очень взрывной. Он боготворил свою мать и, как часто это бывает, больше всех доставлял ей горести. За шишковатый лоб его звали Копиян Левон (т.е. шишкастый). Помню его очень смутно, т.к. я был еще очень мал, когда его посадили в 40-м году и через непродолжительное время объявили, что он умер от дизентерии. Скорее всего, убили, т.к. слишком уж он был непокорный и в отличие от других членов семьи никогда особенно не скрывал, что презирает эту бандитскую власть.
Самой старшей в семье была Эгроп. К моменту, когда родилась моя мама, у старшей сестры была не только своя семья, но и 7-летняя дочка Арусь. Так что, когда моя мама осиротела, Эгроп стала ей матерью, а племянница Арусь старшей сестрой.
Вторая сестра мамы – Сирануш – была немного младше Эгроп, и когда родилась мама, тоже уже имела свою семью.
Маме было 14 лет, когда в Грузии установилась советская власть. Первым делом большевики конфисковали почти все имущество семьи Арутюновых: фабрики по переработке кож, склады оптовой торговли, большую часть драгоценностей, в доме, который им принадлежал, оставили им только две комнаты. Бабушка не перенесла такого удара, ее парализовало, и вскоре она умерла.
Мама, как самая младшая, была любимицей в семье, все ее баловали, особенно после смерти матери, жалели и оберегали, поскольку она не отличалась сильным здоровьем и часто болела. В результате воспитали ее совсем неподготовленной к тем тяготам жизни, которые ей были уготованы судьбой.
Я думаю, что выбор отца не был спонтанным и необдуманным. Конечно, моя бабушка Виргиния, наверняка, очень хотела иметь невестку из понтийских гречанок, да где ее взять. Это же не Трапезунд. Но и армяне понтийским грекам были не чужды, так как жили они бок о бок веками, еще со времен Аргонавтов и Понтийского царства Митридатов.
Родители поженились в 1930 г. Не знаю, где сначала поселились молодые, но себя я помню в той квартире, где прошло мое детство. Это дом на пригорке, с фасада трехэтажный, а сзади, с параллельной улицы, одноэтажный, как, впрочем, все дома на нашей Чугуретской улице, которая тогда называлась Арсенальное шоссе. Недалеко, позади нас, проходила железная дорога, а за ней пустырь. В общем, окраина, но какая!... На горе, весь центр старого города перед глазами. Наша квартира была шикарной – четыре большие комнаты с отдельным парадным подъездом, который вел прямо на наш 2-й этаж. Двор очень маленький, весь окруженный в основном застекленными балконами. В этом дворе собственно и протекала вся жизнь. В доме жило больше десятка семей семи национальностей.
Отец много работал, а вечерами еще и прирабатывал дома, составляя строительные сметы. Мама их перепечатывала на пишущей машинке. Отец зарабатывал настолько хорошо, что мог себе позволить оплачивать домработницу.
Бабушка Виргиния жила вместе с ними. До женитьбы сына у бабушки не было большой необходимости в знании русского языка. Круг общения ограничивался родственниками и знакомыми греками, и ей вполне хватало греческого. Надо сказать, что бабушка, кроме того, свободно владела турецким и немного французским языками, понимала и армянский (хотя не признавалась в этом). Но общение с новыми родственниками и соседями по дому было в основном на русском языке. А бабушке русский давался с большим трудом, и она частенько становилась объектом незлых шуток новой родни. «Я хочим будим говорим, не знаем, на каком языком будим говорим», - передразнивала ее за глаза мама. Виргиния была труженицей и корила свою невестку, которая любила подолгу утром нежиться в постели: «Аджаба, пойдем-придем, пойдем-придем, а ты свой жоп с кровать не поднимешь». Я, конечно, знаю все это со слов мамы. Потом, в сибирской ссылке, она часто будет с ностальгией вспоминать свою мудрую свекровь.
Теплые отношения с родственниками, соседями и друзьями вкупе с традиционной кавказской гостеприимностью создавали тот непередаваемый колорит уклада жизни моих родителей, отзвуки которого еще застало мое детство. Теперь лишь уходящее сентиментальное поколение тоскует о золотых прошлых временах, когда знали всех соседей не только по дому, но и почти по всем близлежащим домам убана (района, квартала).
Жизнь шла своим чередом – рождались дети. В 1931 году родился первенец, которого нарекли именем давно умершего деда – Лазарем. В 1934 году родился я, а еще через три года младший брат Дима. Бабушка была на вершине блаженства. Наконец и ее жизнь наполнилась каким-то смыслом и содержанием. Она в полном смысле слова не доверяла молодым родителям воспитание внучат, отдавая им все свое время и душевное тепло.
Итак, бабушка с внуками лепечет на понтийском диалекте греческого, мама на русском, мамина родня на армянском, а кругом слышна еще и грузинская речь. С ума сойти! Вот почему я начал разговаривать лишь к трем годам. Правда, почти сразу правильно.
Бабушку Виргинию я практически не помню. Только один эпизод: мы сидим вокруг зажженной керосинки и поджариваем на огне лаваш. О ней очень много мне рассказывали родственники и соседи. Лицо у нее – с него иконы писать. Как и все понтийские греки глубоко набожная, не на показ. В общении с соседями и родственниками очень доброжелательная. Как и ее сын, никогда без дела не сидела. До появления внуков, когда было много свободного времени, любила читать. У отца была небольшая, но уникальная библиотека, старинные книги на греческом и французском языках.
Я родился 18 декабря 1934 году рослым и увесистым. Так уж получалось, что в роду Дионисиади уже несколько поколений рождались исключительно мальчики, и судьба их была не из легких. Поэтому после первого сына отец очень ждал девочку. Но как говорится, на все Божья воля. Мама говорила, что я родился в «рубашке» - признак того, что ангел-хранитель меня не покинет никогда, и действительно, сколько раз я стоял на самом краю гибели, и всякий раз в последний момент меня спасало какое-то чудо.
Жарким летом рокового 1937 года появился на свет мой младший брат, названный в честь друга Парцалидиса Дмитрием. В отличие от старших братьев он родился светленьким, в породу Арутюновых. Моя мама в детстве тоже была светло-русой и только во взрослом возрасте стала брюнеткой. Отец и на этот раз ждал девочку. Желание его было таким сильным, что Диму первое время даже одевали как девочку. Родители решили, что в следующий раз уж точно будет дочка. Но следующего раза не случится…
В ночь с 15 на 16 декабря 1937 года под нашими окнами остановился автомобиль, и в квартиру постучались чекисты. До самого утра шел обыск. Ворошили вещи, листали книги на непонятных языках, приданое мамы – энциклопедию Брокгауза. Вели себя вполне прилично. Более того, когда один из них хотел обыскать прикроватную тумбочку, рядом с которой спали дети, старший из них по званию строго приказал: «Не надо, дети проснутся». Ох, сколько лет потом мама благословляла его. Ведь там лежали все драгоценности, которые нас еще долго кормили. Незадолго до рассвета составили протокол, забрали упомянутые уже охотничью двустволку и пишущую машинку, а также примитивный фотоаппарат «Фотокор», купленный недавно ко дню рождения Лазика. Когда отца уводили, он спокойно сказал: «Женя не волнуйся, это недоразумение».
Откуда было ему знать в тот момент, что это было не недоразумение, а начало
спланированной акции НКВД, вошедшей в историю под названием «Греческая
операция». За две декабрьских недели 1937 г. были обезглавлены многие тысячи
греческих семей. Практически все греки, имевшие греческое гражданство, были
арестованы. О Греческой операции и о репрессиях против греков в СССР подробно
написано в книге И. Джуха. Греческая операция. СПб, изд-во Алетейя, 2006.
Декабрь, бывший для нас самым счастливым, праздничным месяцем – дни рождения
(мой – 18-го, отца – 19-го, мамы – 24-го), Рождество, Новый год – оказался в
1937 г. самым черным в истории нашей семьи. Он навсегда разделил нашу жизнь на
до и после.
После ареста отца мать металась как в агонии: как быть? что будет? расстреляют – не расстреляют? Эти вопросы ежечасно терзали всех нас долгие полгода. Хотя мы с Димой были еще совсем маленькие и мало что понимали, но общее нервное состояние передавалось и нам.
Переписка и свидания были запрещены. Можно было только носить передачи в тюрьму, где содержался отец. Если у кого-то передачи переставали принимать – это означало конец: человек расстрелян. Если передачи принимали, то надежда еще теплилась. Так продолжалось до начала июля, когда отцу предъявили стандартное обвинение – ст. 58 - КРД (контрреволюционная деятельность). Отцу вменялись совершенно абсурдные, но, по тем временам, обычные вещи: террор (основание – найденная при обыске охотничья двустволка Зауэр), шпионаж (фотоаппарат, подаренный Лазику) и антисоветская пропаганда. До ареста отец активно переписывался с Димитрисом Парцалидисом (тогда уже крупным деятелем Компартии Греции) и получал от него греческие газеты, что послужило основанием для обвинения его в получении и распространении среди греков Закавказья фашистской литературы. А конфискованная пишущая машинка, на которой мама перепечатывала строительные сметы отца, «свидетельствовала» о тиражировании антисоветской литературы. Также стандартными были приемы для получения признания человеком своей вины, даже самой абсурдной, - запугивания, обман, избиения. Как позже объяснял отец, подписывая признания, арестованные рассчитывали на суде доказать свою невиновность. Наивные люди… Какой суд? Особое совещание при НКВД штамповало обвинительные приговоры без суда, без следствия, даже присутствие обвиняемого не требовалось. Так, 2 июля 1938 г. отцу сообщили, что он приговорен к 10 годам ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей) на Колыме.
Большинство греков СССР получило тогда точно такой же приговор. В упоминавшейся мною книге Ивана Джухи «Греческая операция» (СПб., 2006) по сотням документов, писем и воспоминаний скрупулезно воссоздана жуткая картина репрессий против греков 30-40-х годов – от арестов до расстрелов и жизни и смерти в лагерях. История моего отца тоже стала частью этой картины. Также как и история родных для отца братьев Илиопуло – Софокла и Алеко (Александра), живших в Батуми. Внук Софокла, Андрей Илиопуло, помнит рассказы деда о том, как все происходило. Сначала пришли брать Софокла, но дома оказался только брат Алеко. Его посадили в машину и сказали: «Поедем, покажешь, где Софокл». Больше его не видели, домой он не вернулся. Произошло это во время все той же Греческой операции – в декабре 1937 г. А Софокла арестовали чуть позже, в начале следующего 1938 г. После войны, в 1948 г., арестовали Харико и Жору (Георгия) Илиопуло. Первый прошел тот же путь на Колыму, что и мой отец и младшие братья Илиопуло. А второму «повезло» - его «всего лишь» сослали в Казахстан, откуда в 1956 г. ему удалось уехать в Грецию. А вообще фамилия Илиопуло установила на Колыме печальный рекорд по наибольшему количеству родственников с одной фамилией – 6 человек!
В конце июля 1938 г. большую группу осужденных греков отправили поездом во Владивосток, а оттуда их должны были этапировать на Колыму. Дорога заняла почти два месяца, до Владивостока они добрались 21 сентября. Не знаю, прибыли ли они одним этапом с отцом или разными, но во Владивостокской пересылке в одно время оказались также Софокл и Алеко Илиопуло. Жизнь снова переплела их судьбы, теперь уже в тяжелейших, трагических обстоятельствах. С Софоклом отец последние годы срока отбыл на одном и том же прииске Сусуман, а Александр не дожил до лагерей, он умер во Владивостоке в декабре 1938 года.
В пересыльном лагере во Владивостоке отец пробыл восемь месяцев. И хотя он был от нас в нескольких тысяч километров, мы смогли наконец-то получать от него письма. Первое время переписка шла односторонняя, до нас его письма доходили, а мамины письма отцу нет. Какова же была его радость, когда в январе 1939 г. он получил первое письмо с фотографией детей.
В первых письмах отец просил в основном об одном – ехать в Москву, в греческое посольство, и ходатайствовать. Тогда там работал его старый друг Федор Караянопуло, на помощь которого он рассчитывал.
Долгое пребывание во Владивостоке, задержка с этапированием на Колыму, да еще
то, что до него стали доходить письма из дома, породили надежду, что, может
быть, что-то сдвинулось в его «деле». В каждом письме он просит энергичнее
хлопотать за него в Москве, в греческом посольстве. Кроме того, в одном из писем
он спрашивает была ли Виргиния у Вышинского? Наверное, у него закралась мысль,
что Д. Парцалидис (к этому времени он входил в ЦК Компартии Греции) по своим
каналам пытается помочь ему. В конце января 1939 г. он пишет: «… я думаю, что в
феврале-марте нас будут этапировать в сторону запада, ближе к дому. А, может
быть, и в сторону, где тетя Оля, сестра мамы. … Я живу надеждой, что скоро
встретимся». В переводе с эзопова языка это означало: возможно, скоро мне
разрешат вернуться домой или всем нам разрешат уехать в Грецию (тетя Оля, сестра
Виргинии, жила в Салониках). Отец не знал, что весной 1938 года
Д. Парцалидиса тоже арестовали, и он пробыл в тюрьмах до 1944 г. Так что друг
детства никак не мог ему помочь…
Надежды рухнули, когда в июне отца отправили на Колыму. Единственный путь из Владивостока в колымские лагеря – морем, до бухты Нагаево, где находился поселок Магадан. Задраенные трюмы кораблей были битком набиты людьми, их количество доходило до 3-5 тысяч человек. Переход длился восемь-девять дней, страшно себе представить, что там творилось во время шторма. Бухта Нагаево известное место по воспоминаниям Виктора Шаламова, Георгия Жженова и других классиков «гулаговского жанра», которые прошли тем же этапом, что и отец.
Надо сказать, что я никогда не слышал от отца воспоминаний об этом времени. Не знаю, может быть, ему было невыносимо вспоминать лагерную жизнь, может быть, он не хотел ожесточать наши сердца, ведь тогда мы были комсомольцами и до мозга костей советскими людьми. Может быть, жизнь научила его быть предельно осторожным, и он боялся давать нам «лишнюю» информацию, проговорившись о которой, мы могли погубить себя. Вот только во время застолий в сибирской ссылке, да потом и в Москве он затягивал одну и ту же песню «Я помню тот Ванинский порт», гимн колымских зеков…
Я помню тот Ванинский порт
И вид парохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт
В холодные, мрачные трюмы.
На море спускался туман,
Ревела стихия морская.
Лежал впереди Магадан -
Столица Колымского края.
Не песня, а жалобный крик
Из каждой груди вырывался.
"Прощай навсегда, материк!" -
Хрипел пароход, надрывался.
От качки стонали зека,
Обнявшись, как родные братья.
И только порой с языка
Срывались глухие проклятья.
- Будь проклята ты, Колыма,
Что названа чудной планетой!
Сойдешь поневоле с ума -
Оттуда возврата уж нету.
Пятьсот километров - тайга.
В тайге этой дикие звери.
Машины не ходят туда.
Бредут, спотыкаясь, олени.
Там смерть подружилась с цингой,
Набиты битком лазареты.
Напрасно и этой весной
Я жду от любимой ответа.
Не пишет она и не ждет,
И в светлые двери вокзала,
Я знаю, встречать не придет,
Как это она обещала.
Прощай, моя мать и жена!
Прощайте вы, милые дети.
Знать, горькую чашу до дна
Придется мне выпить на свете!
Все немногие сведения о колымской жизни отца я узнал уже позже из рассказов Софокла Илиопуло и от других бывших зэков когда жил среди них в Сибири. Более подробно изучал проблему уже в Москве.
В период перестройки, когда горстка энтузиастов под руководством А. Д. Сахарова создала Историко-просветительское Общество Мемориал, я был одним из создателей Объединения жертв необоснованных репрессий, и первые четыре года входил в состав его Городского Совета. Вот тогда я с головой окунулся в изучение постигшего нас ужаса вместе с почти случайно выжившими в детдомах отпрысками таких фамилий как Смилга, Косиор, Фельдман , Антонов-Овсеенко и др. Только тогда я понял, что на самом деле пришлось пережить отцу. Я понял, что стояло за скупыми фразами его писем с Колымы – «Дорогая Женя, убедительно прошу тебя хлопотать по моему делу, ибо я не в состоянии перенести здешний климат, суровую зиму с большим трудом. Продай все, выезжай в Москву и хлопочи» (август 1940 г.), «… я еще 7 лет не выдержу кошмара Колымы. Каждый час дорог, действуй и хлопочи, о результатах телеграфируй»» (ноябрь 1940 г.). (Все сохранившиеся письма отца опубликованы в книге Ивана Джухи «Пишу своими словами…». СПб, 2009).
Отца сначала отправили на прииск Верхний Ат-Урях, а потом перевели на прииск Сусуман. Осужденные по 58-ой статье, т.е. политические, определялись на самые тяжелые работы, и сначала отца отправили в забой. Работа в забое практически не оставляла шансов на выживание. Отца, видимо, спасло то, что, как человека образованного и имеющего специальность, его время от времени использовали на должностях учетчика, нормировщика и бухгалтера, а затем на Сусумане он работал по специальности - прорабом и начальником стройцеха. Все эти колымские должности отец перечислил в листке по учету кадров, который заполнял уже в красноярской ссылке.
Современному человеку даже трудно себе представить, как можно было выжить в лютом холоде, когда вместо одежды были какие-то лохмотья, при хроническом голоде, при изнуряющей физической работе и при нависшем дамокловым мече - возможности расстрела в любую минуту без всякого повода, по прихоти администрации.
Здесь не могу не процитировать воспоминания Виктора Шаламова, который отбывал свой срок на соседнем с Верхним Ат-Уряхом прииске «Партизан».
«Самым, пожалуй, страшным, беспощадным был холод. Ведь актировали (имеется в
виду отмена работы с зачетом трудодней – А.Д.) только в мороз свыше 55 градусов.
Ловили вот этот 56-й градус Цельсия, который определяли по плевку, стынущему на
лету, по шуму мороза, ибо мороз имеет язык, который называется по-якутски «шепот
звезд». Этот шепот звезд нами был усвоен быстро и жестоко. Первое же
отморожение: пальцы, руки, нос, уши, лицо, все, что прихватит малейшим движением
воздуха. В горах Колымы нет места, где не дули бы ветры. Пожалуй, холод — это
самое страшное».
То же самое я испытал на собственной шкуре, работая в Якутске зимой 1955/56 года
на межнавигационном ремонте судов, вмерзших в 2-х метровый лед, но об этом
позже.
Подтачивал силы и постоянный изнуряющий голод. Норма пайка была мизерная, и по вечерам заключенные собирались около столовской помойки в ожидании, когда выбросят селедочные головы, чтобы сварить из них баланду. В тех условиях очень быстро начиналась цинга. Тем не менее, отец в письмах из Колымы редко просил продуктовые посылки, понимая, что мы сами нуждаемся. Но даже те посылки, которые мама отправляла в лагерь, или возвращались обратно, или присваивались администрацией и уголовниками.
Надо сказать, что с попустительства, а то и с поощрения администрации политических заключенных терроризировали уголовники. Они цинично заявляли: «Я убил одного человека, а вы всю мою страну загубить хотели». Но отцу удалось выстроить с ними отношения, к концу срока уголовники уважительно называли его Академиком за умение толково составлять всякие прошения, жалобы, ходатайства и т.д.
Письма с Колымы приходили все реже и реже. Зимой, когда прекращалась навигация с «материком», прерывалась и эта тоненькая связь с домом. Не знаю, от чего отец страдал больше от голода, холода, невыносимых условий или от отсутствия писем, от неизвестности, что с мамой, женой, детьми. В отчаянии он писал: «я уже 8 месяцев не имею сведений от тебя. … Письмо ж единственное, что может меня поддержать». Может и сейчас хранится пачка маминых писем, не прошедших цензуру и поэтому не дошедших до отца, где-нибудь в архивах НКВД…
Во время войны связь с домом прервалась полностью. Хочу привести письмо отца, которое он написал 11 декабря 1946 г. в ответ на первое за четыре года известие от мамы:
«Дорогая Женя!
Вчера получил твою телеграмму и не могу описать тебе мою радость, не мог зайти в
общежитие(мама не знала слова «барак»), так как не мог остановить слезы, плакал
как ребенок от радости, пойми это единственное известие от тебя за 4 года. Что
со мной будет, если я получу твой снимок с детьми, не могу себе представить, а
если вас увижу, наверное, с ума сойду. Наша встреча это единственное, что меня
поддерживает, и надеюсь, переживу после 9 лет еще год и удастся мне встретить
тебя и детей. Но в этом нужна и твоя помощь, добивайся досрочного освобождения,
реабилитации и выезда к тебе, в этом тебе поможет Димитрий Парцалидис, он
Генеральный секретарь Национально-освободительного фронта Греции (ЭАМ), бывает,
наверное, в Москве, и он должен тебе помочь, он мой воспитанник и верный мне до
гроба друг, посоветуйся с Сашей и обратись к нему.
После телеграммы жду письма, чтобы узнать хоть что-нибудь о вашей жизни. Как дети? Что делают? Где учатся? Жива ли мама? И где она? Где Саша, Нина, Левон, Гарегин, Арусь и все наши родственники и друзья? Или они были друзьями в хорошие времена, а сейчас забыли нас? Мне все интересно, пиши обо всем подробно.
Если тебя не затруднит, вышли мне посылку, только табаку (рассыпной махорки) и больше абсолютно ничего по адресу: Магадан, Сусуман, Западное горно-промышленное управление. Комендантский ОЛП. Дионисиади Николаю Лазаревичу.
Телеграммы и письма по старому адресу Сусуман, Хабаровск, Промкомбинат.
Вручаю тебе письмо на греческом языке моему другу Димитрию Парцалидису, о нем я
тебе писал выше, прими все меры, чтобы это письмо попало к нему. Если письмо это
попадет к нему, наша встреча обеспечена.
Целую крепко, крепко тебя и детей. Ника.»
Надо ли говорить, что письма к Парцалидису в конверте не оказалось…
15 декабря 1947 года наступило долгожданное освобождение, но отъезда с Колымы пришлось дожидаться до февраля, когда заполнился пароход, увозивший вчерашних зеков из колымской бухты Нагаево в Ванинский порт Владивостока. Обратный путь в трюмах мало чем отличался от того, что было десять лет назад. Благодаря задержке на Колыме, отец «дождался» освобождения Софокла Илиопуло, и путь до Москвы они проделали вместе.
Сойдя на берег во Владивостоке, они поняли, что добираться дальше до Москвы и затем до дома им не на что. Никто билетов освободившимся зекам не выдавал, а денег у них не было ни копейки. Но эта ли проблема для людей прошедших 10 лет лагерей и выживших в нечеловеческих условиях?… Из подобранной у дороги старой автомобильной камеры иностранного производства они нарезали сотню резинок для трусов. На базаре их расхватали в один миг. Заработанных денег хватило и на еду, и на билет до Москвы…
В Москву отец приехал 6 марта 1948 г. и остановился у родственников. На следующий день он пишет маме: «…. Сейчас, Женя, послушай о следующем. Т.к. право прописки в Тбилиси пока не имею, о моем приезде шуму не подымайте, лучше, чтобы не все знали. Встречай одна с Олей (друг семьи – А.Д.), без детей, а то пусть встречает одна Оля, если не над еешься на свое самообладание. Самое главное – без шуму. Выеду 11 марта в 16 ч. 25 м поезд № 13, вагон № 1….».
Через несколько дней во двор нашего дома в Тбилиси вошел невысокий, сморщенный человек, с выражением какой-то вины в выцветших глазах, без зубов, в байковом костюме мышиного цвета и фанерным чемоданчиком в руке. Его взгляд остановился на мне, сидевшем в тот момент на ступеньках нашего дома…
О нашей встрече я расскажу подробнее чуть позже, ведь она относится уже не к колымской, а к тбилисской истории жизни нашей семьи…
После объявления приговора отцу наступила хоть какая-то определенность и даже можно сказать, что стало немного спокойнее: ведь отца не расстреляли, как многих греков, арестованных во время «Греческой операции», и хотя его отправили в лагеря в такие отдаленные края, что мало кто о них до этого слышал, но тем не менее сохранялась надежда, что через 10 лет, а может быть и раньше, он вернется, и все будет как прежде… Если бы мы тогда знали, что это были за 10 лет колымских лагерей…
Мама с бабушкой стали потихоньку обустраивать нашу «жизнь без отца». Жили скромно, но не голодали. Мама постепенно продавала свои драгоценности, которые чудом не обнаружили во время ареста отца. Бабушка Виргиния жила любовью и заботами о внуках и только по ночам тайком от мамы плакала в подушку.
Казалось, что жизнь как-то стабилизировалась, но Молоху сталинской системы было мало одной жертвы от нашей семьи…
В начале 1939 г. бабушку Виргинию пригласили в НКВД и сказали, что ее сына по всей вероятности депортируют как иностранного подданного в Грецию, и что ей лучше уехать туда и ждать. При этом «доброжелательно» намекнули, что они люди подневольные, и никто не может предугадать, какие решения будут приняты в Москве относительно оставшихся пока на свободе членов семей «врагов советского народа»…
Выбора у бабушки не было. С одной стороны, возможность воссоединения семьи в Греции, где к тому времени жила вся ее родня и Д. Парцалидис (она не знала, что тот уже арестован). С другой, разлука с любимыми внуками и невесткой, к которой она успела привязаться. Несмотря на плохое знание русского языка и от этого трудности в общении, у Виргинии было много друзей. Надо сказать, что она очень нравилась не только маминой родне, но и всем, кто ее успел узнать, особенно нашим соседям, а беда, свалившаяся на ее голову, сделала отношение к ней еще более теплым и сердечным.
В твердой уверенности, что семья воссоединится в Греции, она решила забрать с собой все, что было можно, и в первую очередь швейную машинку Зингер. Она умоляла мать отдать ей с собой хоть одного из трех внуков. Больше всего она любила самого старшего – Лазика, которому было уже 8 лет, и он довольно прилично понимал понтийский диалект греческого языка. Кстати, только он и запомнил ее очень хорошо. Но взять она была бы рада любого из нас. «И тебе будет легче прокормить двоих и мне будет утешение, пока вы не приедете», - говорила она. Но какая армянская мать добровольно отдаст свое дитя… Я не помню такого эпизода, но бабушка в одном из своих писем вспоминала, что я готов был отправиться вместе с ней в Грецию и даже побросал свои вещи в ее сундук. И она, чтобы избежать душераздирающих сцен при расставании, вынуждена была уйти не попрощавшись со мной и не поцеловав меня на прощание. Это мучило ее долгие годы…
Отчаявшись, на память о внучатах она взяла в Грецию снятые с нас маечки, навсегда сохранившие, как ей казалось, тепло и запах наших тел...
Проводы корабля из Батумского порта были бы достойны пера Эсхила. Люди в толпе теряли сознание, были и летальные исходы, кто-то бросался в море с уже отчалившего парохода. Мама видела все это своими глазами и не могла забыть до самой смерти.
Таких несчастных, как моя бабушка, были сотни. Они оставляли своих отцов, мужей, детей в сталинских застенках и уезжали, чтобы больше их не увидеть. По данным, Ивана Джухи, которого я уже не раз цитировал, за 1938-1939 гг. из СССР в Грецию было отправлено в общей сложности около 10.000 греческо-подданных. За каждым из них своя трагическая история разрыва семейных, дружеских и прочих человеческих связей.
Несмотря на горечь расставания, никто из нас в тот момент не мог предположить, что мы никогда больше не увидимся.
Вскоре после приезда Виргинии в Салоники началась Вторая мировая война и она попала, как говорится, «из огня да в полымя». Надежда бабушки на освобождение ее сына и воссоединение семьи рухнули. Жизнь ее превратилась в кромешный ад, который не сравнить даже с нашими муками. Мы хотя бы были вместе, и хоть какие-то весточки доходили об отце, а она лишилась самого главного – надежды. Лично я понял всю глубину трагедии моей бабушки, когда сам обзавелся внуками и попробовал себе представить ее душевное состояние.
С 1940 года Греция была активно вовлечена в военные действия и поначалу удачно отражала атаки итальянской армии, но уже весной следующего 1941 года была оккупирована немцами. Салоники не раз подвергались бомбардировкам, оккупация привела к страшным последствиям – люди гибли от бомбежек, от голода, от репрессий (было уничтожено почти все еврейское население города). Так продолжалось до освобождения Греции осенью 1944 года. Да и потом было не лучше: страна в состоянии гражданской войны, экономический коллапс…
Бабушка стойко сносила все тяготы военной оккупации и после оккупационного времени, но была совершенно беззащитна перед страхом за нас, перед неизвестностью, что с нами и с отцом. С началом оккупации переписка практически прекратилась. Позже она писала: «Шесть лет войны истощили мое терпение и мужество, сама удивляюсь, как вынесла все это. Но иногда такая тоска меня охватывает, что, как увижу детей, похожих на вас, то останавливаю и разговариваю с ними, а они смущаются и смотрят на меня. Если бы хоть кто-нибудь из вас был рядом, я бы знала, для чего живу и работаю». В Афинах, Салониках, Кавале, Флорине, Драме жили ее сестры и брат с семьями и родственники по линии Дионисиади. Они не забывали о ней, всячески старались ее поддержать, так что нельзя сказать, что она была одинока. Но как она сама признавалась: «Нигде не могу я обрести покой. Только оставаясь одна в своей комнате и смотря на ваши фотографии, я нахожу утешение». Когда совсем становилось тоскливо, она с головой уходила в работу – шила и перешивала старые вещи на той самой швейной машинке Зингер, которую вывезла из Тбилиси. Работа, кроме того, давала ей возможность не зависеть финансово от родственников, снимать комнату в центре города и после войны иногда пересылать нам посылки с одеждой. Когда она не работала, то часто гуляла по набережной. Для нее это было особое место, она даже нам открытку прислала с видом на Леофорос Никис и приписала, что это ее любимое место прогулок. Конечно, ведь ее родной Трапезунд и вторая родина – Батуми тоже были расположены на берегу моря… И может быть, когда она гуляла по набережной, у нее возникала иллюзия, что Море (хотя и совсем другое) скорее не разъединяет, а связывает ее с той прежней жизнью, с нами…
Первую весточку от бабушки мы получили в феврале 1944 г. Судя по письмам, почти до конца 1945 г. она наших ответных писем не получала. Всего осталось 10 ее писем и несколько открыток, почти все за период – начало 1946 г. – весна 1948 г. Письма и открытки написаны на греческом языке, ровным красивым, я бы сказал, каллиграфическим почерком. Но за этими ровными строчками в каждом письме сумбур чувств, боль и тоска разлуки и робкая вера в возможность воссоединения семьи на греческой земле. Многие строчки размыты и их трудно разобрать. Так что письма в самом что ни на есть прямом смысле омыты слезами.
После войны, когда связь с нами более или менее наладилась, и особенно после освобождения отца, она опять начала жить надеждой на встречу с нами. «Надеюсь, что, если Судьба и Война нас разлучила когда-то, сейчас Судьба и Мир снова нас сведут». В апреле 1948 г., после того, как Виргиния получила долгожданную новость о возвращении своего сына и вслед за ней его собственноручно написанное письмо, она написала, что родственники начали хлопотать о получении разрешения на приезд нашей семьи в Грецию. Но предчувствие, что встреча, если и состоится, то очень нескоро, не покидало ее. В марте 1947 г. она пишет: «Девять лет подряд вдали от родных сердце мое было тверже железа и стали, но в этом году я стала бояться, что мне еще лет девять придется ждать, а ведь мои годы уходят безвозвратно». Бабушка оказалась провидицей: мой отец первый раз приехал в Грецию в конце 1955 г., т. е. почти через девять лет после написания этого письма и через год с небольшим после смерти бабушки…
Встретившись со своими греческими родственниками, отец, наконец, узнал, как жила мать все эти годы. В середине 1949 г., узнав о новом аресте своего сына и бессрочной ссылке в Сибирь, она погрузилась в депрессию, из которой уже не выбралась… Последние годы бабушка почти ничего не ела, много курила и пила крепкий кофе. Стала понемножку выпивать. Всю жизнь она хранила под подушкой увезенное наше нательное белье, доставала его, гладила, нюхала и даже разговаривала с ним. Постепенно она стала терять разум. Слава Богу, родственники не оставили ее, последнее время она жила у своего брата. Бабушка умерла 27 сентября 1954 года, ей было не так уж много лет – 71.
По греческому закону бабушку захоронили во временную могилу, через 3 года надо было выкупить участок или же в противном случае останки должны были перезахоронить в общую могилу. К счастью, отец к этому времени смог сам отдать последний долг своей матери. В 1957 г. он специально приехал в Грецию, чтобы перезахоронить останки на купленном участке кладбища в пригороде Салоников, в районе Каламарья. К сожалению, он не только не оставил документов на участок, но и толком не объяснил, где находится могила. Он не придавал этому значения: ведь вскоре он собирался повезти нас в Грецию и хотел сам показать нам могилу бабушки… Но не довелось…
С конца 80-х годов, когда, наконец, мне разрешили выехать за границу, меня неотступно преследовала мысль, что я должен приехать в Салоники и разыскать могилу бабушки. К этому времени из трех внуков бабушки в живых остался только я: младший - Дима погиб в 1957 г., а старший – Лазик умер в 1977 г. Так что для меня найти могилу бабушки и почтить ее память было не только долгом перед Виргинией, но и долгом перед рано ушедшими братьями…
Такая возможность появилась только в 1995 г., когда я перебрался в Грецию на ПМЖ (постоянное место жительства). Приехав в Салоники, я отправился на кладбище в Каламарью и с большим трудом, но все же нашел могилу. И тут сердце мое сжалось от вида запустения: покрывающая могилу плита из белого мрамора провалилась в осевший грунт и образовала воронку, которая была заполнена каким-то мусором. Но в тот приезд в Салоники мне ничего не удалось сделать: не было ни времени, ни денег, ни знания языка. Я вернулся в Афины, где в то время жил, но жуткая картина оскверненной местным хамьем могилы все время стояла перед глазами. Только через полгода я смог опять приехать в Салоники и на этот раз привести могилу в порядок. Огромный камень свалился с моих плеч…
Кроме писем от бабушки остались только маленькая иконка-складень и полуистлевшая тетрадь стихов, которую я в 1999 г. передал в дар музею Центра по изучению культуры греков Причерноморья в Салониках, располагавшемуся совсем недалеко от кладбища, где она нашла последнее успокоение.
А еще осталась наша светлая память о ней…
Десятилетие − c 1939 по 1949 гг., на которое пришлось наше взросление и человеческое становление, было тяжелейшим, впрочем не только для нашей семьи, но и для всех тех, кто попал в жернова истории, а таких было большинство...
Арест отца, колымский приговор, по сути насильственная высылка бабушки Виргинии, потом война, хроническое недоедание и постоянный болезненный страх. Вот это я запомнил очень хорошо на всю жизнь. У меня до сих пор мурашки бегут по телу, и к горлу подкатывает ком, когда я слышу позывные радио, с которых начинались сводки Совинформбюро, хотя это был мотив популярнейшей песни «Широка страна моя родная». До сих пор помню недетские сны своего детства и глаза матери, когда ей нечем было нас кормить. Меня постоянно преследовал страх за ее здоровье и жизнь. Единственной отрадой были рассказы мамы, родственников и соседей, какой сильный, добрый и умный наш папа, которого арестовали по ошибке. Вот скоро он вернется, и мы все заживем припеваючи...
1939 год. Лазик уже два года как школьник и ведет себя как положено старшему брату. Младшего брата Диму почти усыновила тетя Эгроп. Ее дочь Арусь, актриса, в это время уже жила в Москве. Я тоже частенько по нескольку дней гостил у «бабушки» Эгроп, как мы называли мамину старшую сестру. Я помню большой дом на Вокзальной улице, большой двор, много детей, там мы забывали о своих бедах.
Еще одно воспоминание раннего детства − как в долгие зимние дни, когда играть на улице было холодно, я часами просиживал на очень широких подоконниках нашего дома, который стоял на горе, откуда весь город был как на ладони. Разглядывал съезжавшиеся вагончики фуникулера на другом конце города в ожидании, что они вот-вот упрутся друг в друга и остановятся. Но они, как ни странно, все время разъезжались в одном и том же месте, в самом центре канатного подъема, недалеко от часовни, у которой похоронены Грибоедов и мать Сталина.
Впечатления дошкольного детства так врезались в память, что очень часто вспоминаю эту пору. В предвоенные годы мы еще не испытывали тех лишений и нужды, которые с лихвой пришлось пережить во время войны, но невероятно тяжелым было клеймо детей «врага народа». Мы ведь знали, что это ошибка, и что «мудрый и добрый» Сталин обязательно эту ошибку исправит. Как-то пошли мы делать фотографии для отправки отцу на Колыму. Я заметил, что у младшего брата Димы туфелька совсем расползлась и предложил посадить его повыше так, чтобы это было видно: «Дяденьки увидят, что мы такие бедные, пожалеют и отпустят папу». Папу не отпустили, а фотография осталась...
Я, родившийся довольно крупным, почему-то стал отставать в росте, и Димка, который был на три года младше, перерос меня. Маму это не на шутку обеспокоило. Врачи ничего не могли сказать определенного и посоветовали отвезти меня в Москву. Благо, что там уже давно жила моя двоюродная сестра (напомню, что она была старше моей мамы) тетя Арусь, и мы поехали туда. Я очень смутно помню все, что было до этого, но 22 июня 1941 г. не забуду уже никогда. Поезда тогда шли через Азербайджан и очень долго. Меня и сейчас трудно оторвать от окна, когда я еду куда-нибудь в поезде, а тогда и подавно. Мелькающие за окном деревья, горы, холмы, речки, дома завораживали и вводили в состояние полудремы.
Только мы миновали живописные берега Каспийского моря и предгорья Северного Кавказа, страшная весть поразила весь вагон – Война! Я, конечно, ничего не понимал, но всеобщая тревога, граничащая с паникой, вселяла в меня ужас. Уже не радовали ни бескрайние просторы, ни колоритные торговцы всякой снедью, даже перестали вызывать отвращение крынки с молоком, куда бросали лягушек, чтобы молоко не скисало. Помню бедного офицера, который ехал в долгожданный отпуск, но вынужден был с полпути возвращаться в свою войсковую часть. Мама ему пришивала свежий воротничок. Когда он выходил на станции, почти весь вагон провожал его как родного.
В Москве тетя Арусь развернула кипучую деятельность и меня показали лучшим профессорам того времени. Диагноз был как приговор… Можно попробовать прооперировать, но шанс на выживание 50 на 50. Мама, конечно, на такой риск пойти не могла, тем более без мнения отца. Долго я потом упрекал ее когда немного повзрослел. Рано созрев и обнаружив в себе поистине африканские страсти, я не только не смел пригласить понравившуюся девушку на танец, но стеснялся даже стоять или идти рядом с ней.
Итак, решение отказаться от операции принято и надо возвращаться в Тбилиси, а билетов не достать даже через многочисленные связи тети Арусь. Лишь поздней осенью нам удалось выехать в Тбилиси. Эти несколько месяцев, проведенных в Москве, оставили у меня двойственные воспоминания. Первое впечатление − мне все нравится − и строгие, но очень вежливые милиционеры, проверяющие на каждом шагу документы, и широченные улицы с мчащимися машинами, ну и больше всего, конечно, метро, Мавзолей и торговки мороженым и газировкой.
Но всем своим существом я чувствовал нарастающее с каждым днем напряжение, осенью оно достигло апогея. Ночные противовоздушные тревоги разрывают сердце. Этот вой сирен страшнее, чем рев самолетов. Меня наспех одевают, и полураздетые мы бежим к ближайшей станции метро «Красные ворота». Там вавилонское столпотворение, ужас на лицах людей. С нами двоюродный брат тети Арусь – Варткес, у которого расстреляли родителей, и он со своим братом Ашотом воспитывался в семье тети Эгроп и ее мужа Сергея Карповича Папяна. Он нас пытается успокоить: «Да, кто их подпустит к Москве? Вы что не видите, что все небо над городом в аэростатах? Это так, на всякий случай, так сказать перестраховка». Через несколько дней он уйдет на фронт, и мы его больше уже никогда не увидим. Он пропал без вести. Очень хотелось верить, что он не погиб. Лучик надежды сверкнул в самом начале 70-х годов, когда кто-то из ФРГ разыскивал своих родственников по фамилии Папян. Сын тети Арусь Эдик занимал в то время высокую должность, он был главным архитектором города Еревана. Тот, кто жил в те времена помнит, чем оборачивались "родственные связи с заграницей". Конечно, брежневские годы были не такими кровожадными, как прежде, свободы и жизни уже не лишали, но неприятности для семьи были бы обеспечены надолго, и с должностью можно было бы сразу попрощаться. В который раз советская власть предложила иезуитский выбор − либо любимое дело, которому посвящена жизнь, либо возможность повидаться с родственниками. Эдик Папян сделал свой выбор, и язык не повернется что-то сказать в осуждение, ни тогда, ни сейчас...
Итак, мы оказались в Москве в самое тревожное время. Немцы стремительно наступают. Усердно распускаются слухи, что на советскую территорию забросили много шпионов и диверсантов из перевербованных наших военнопленных. У подъездов круглосуточные дежурства жильцов. А я с восхищением смотрю, как московские мальчики 12 – 14 лет наравне со взрослыми дежурят на крышах домов, хватая специальными щипцами очень редкие фугасные бомбы и бросают их в бочки с водой. Они для меня настоящие герои.
Наконец, друзья тети Арусь помогли с билетами, и мы вернулись в Тбилиси. Теперь я сам чуть ли не герой среди сверстников, с восторгом рассказываю все, что видел и наверняка что-то привираю. Воображение у меня уже тогда было богатое.
Мне 7 лет исполнится в декабре, а родственники и соседи уговаривают маму отдать меня в школу уже в этом году, ведь я знаю наизусть многие стихотворения Сергея Михалкова, Корнея Чуковского и др., пытаюсь сам плести рифмы и почти умею читать. Соседи за мою кудрявую голову и смышленость прозвали Пушкиным, что мне почему-то совсем не нравилось, и чтобы избавиться от этого прозвища, я всеми силами боролся с кудрями, намочив волосы, туго перевязывал их полотенцем, чтобы как-то распрямить непослушные кудри. К счастью, не помогло.
Мама решила, что мне желательно еще хоть немного подрасти и в школу меня отдали даже не в следующем, а только в 1943. Я учился в русской мужской школе (тогда обучение было раздельным) № 21. С одноклассниками я сначала конфликтовал. Поначалу меня дразнили: «Мальчик с пальчик!», чем приводили в бешенство, и я бросался в драку с мальчишками, которые были намного крупнее меня. Но после того, как нашу школу перевели в другое более просторное здание на Плехановском проспекте и наш класс разделили, мои враги, оставшиеся в одном классе со мной, стали моими самыми близкими друзьями и побратимами по сей день. Правда, «иных уж нет, а те далече», но те, кто остались, верны кавказской традиции святой мужской дружбы, и никакие разлуки ее разрушить не могут. Жора Гордезиани, Отари Цихисели, Миша Сванизде, Вова Акопов, Макусик (Марк) Кофман, Алик Дионисиади − вот наша сплоченная интернациональная компания, где «один за всех и все за одного». Тогда мы даже не задавались вопросом, кто какой национальности.
Вова Акопов единственный из нас был круглым отличником. Гордость нашего физика (как и мой брат), ставший потом одним из учеников академика Ландау, был нашей палочкой-выручалочкой на контрольных по математике. Он молниеносно решал все варианты заданий и давал нам списать. У Миши Сванидзе отец был гаишник. Хорошо запомнился его мотоцикл с коляской, который мы катали по их крохотному дворику и огромную бочку соленых огурцов, которая стояла прямо во дворе. Мы частенько после школы заходили всей нашей компанией полакомиться огурчиками. В это голодное время каждый из нас готов был поделиться с другом последним куском хлеба.
Мы часто убегали с уроков почти всем классом, чтобы побродить по окрестным горам, по Комсомольской аллее, зоопарку. Наши так называемые «шатало» были тщательно спланированы, организационно подготовлены и как правило совпадали с контрольными работами. Штрейкбрехеры жестоко наказывались «темными». Это когда на предателя набрасывают пальто чтоб не видел кто его лупит. Бесцельно бродя по улицам древнего города, вечно попадали в какие-то переплеты, кого-то догоняли, от кого-то убегали, жестоко дрались с другими мальчишками, иногда задирали прохожих, в основном это были люди интеллигентного вида, «в шляпе и в очках». Советские фильмы создали у нас тогда стойкий образ «гнилого» интеллигента – или дезертира, или шпиона, или предателя.
Палачи, лишившие нас отца и бабушки, взялись за наше «образование» и «воспитание» в лучших традициях янычарства. Оказалось, что самыми родными нам людьми были гениальный дедушка Ленин, «отец всех народов» Сталин, конечно же великий Берия (его в Грузии обожествляли) и другие. Их именами начинались и кончались все школьные мероприятия, с их портретами мы ходили на все праздничные демонстрации. Мы буквально бредили любовью к ним и преданностью. Мечтали только об одном: поскорее вырасти, устроить мировую революцию, чтобы освободить стонущий под гнетом буржуев трудовой народ. Нам внушали, что мы самые свободные, самые счастливые дети мира. «Спасибо Великому Сталину за наше счастливое детство!» – вот главный лозунг нашего детства.
«Промывкой» мозгов занималась и школа, и литература, и кинематограф, они формировали и уродовали наше еще не устоявшееся сознание. Трудно было что-то противопоставить этой массированной пропаганде, да и некому. Элиту страны почти всю уже истребили или нейтрализовали в ГУЛАГе или на войне. Те, что уцелели и понимают, что происходит даже пикнуть не смеют слова правды.
И, тем не менее, я с благодарностью вспоминаю некоторых наших учителей, которые вынуждены были говорить «правильные» лозунги, но вместе с тем пытались сохранять внутреннее достоинство и душевную теплоту.
Никогда не забуду свою первую учительницу еще старой формации, добрейшей души Анну Валериановну, которая водила меня к себе домой заниматься и заодно подкармливала, как могла. Бедной старушке я доставлял немало хлопот, а она, жалуясь на меня маме, неизменно приговаривала «Милая моя, дорогая моя, Вы только его не бейте, пожалуйста. Он у вас такой хороший, такой хороший!».
Был у нас уже в старших классах физик Шапошников Владимир Борисович – светлый образец русского офицера-подводника. Наверное, его отмобилизовали по состоянию здоровья. Всегда в мундире хоть и без погон подтянутый, строгий, но доброжелательный, он сумел привить любовь к физике и воспитать немало ученых. Среди них и мой старший брат Лазарь, и его ближайший друг Фома Шрайбман, и Вова Акопов.
Были и другие «учителя», которые за удовлетворительную оценку вымогали из имущих родителей шалопаев, дрова, керосин, продукты питания, не брезгуя ничем.
Мое детство, несмотря на некоторые радостные воспоминания, было очень тяжелым. В разгар войны мы с Лазиком заболели брюшным тифом, а Лазик потом еще и туберкулезом брюшины. Нужно было хорошее питание, но где его взять? Мамин брат, дядя Саша, сам ожидавший в любой момент ареста, приезжал по ночам к нам или присылал своего шофера и привозил то виноградный сок, то хлеб, то муку – все, что мог. Помню, что машину всегда останавливали не у нашего дома, чтобы не привлекать внимание чужих глаз. Заходили в квартиру через закрытый в обычные дни свой отдельный подъезд который вел только в нашу переднюю комнату.
Никогда не забуду тетю Катю из украинских староверов. Она разносила своим клиентам молоко и всегда одну кружку оставляла нам. Мама отмечала каждую выпитую кружку молока палочкой на обоях, и длинные ряды этих палочек свидетельствовали, что мама, в отличие от тети Кати, не теряет надежды расплатиться с ней когда-нибудь. И, действительно, мы смогли это сделать, когда отец вернулся из лагеря и устроился на работу. Мама разливала это молоко на три граненых стакана, крошила туда похожий на замазку черный хлеб, который мы получали по карточкам, и выцветшими от слез голодными глазами смотрела, как мы едим. Однажды у Лазика украли хлебные карточки всей семьи, мама чуть не сошла с ума.
Не забывали нас и рабочие греки из строительной артели, которую возглавлял отец. Они привозили нам то муку, то крупу, то кукурузу. Несколько раз летом меня брали в деревни Джиграшен и Акбулах. Это было блаженство. Парное молоко прямо из-под огромной буйволицы, глазунья, плавающая в кипящем сливочном масле, сушеная дикая груша, яблоки, кизил, орехи. Папины друзья-греки почти не знали русского, а я понтийского, но все прекрасно понимали друг друга.
Помню, что и мама и мы − дети очень стыдились своей нужды, она была для нас унизительной. Когда мы приходили к кому-либо из друзей моих родителей, нас сразу старались накормить, а мы с жаром утверждали, что только что встали из-за стола. У мамы не было никакой специальности, она не работала, да и не могла бы работать с тремя малыми детьми. Знакомый нашей соседки влиятельный делец из грузинских евреев Хазар, светлая ему память, записал маму в клуб служебного собаководства (!), где мы иногда получали просо или другую выбракованную из общепита крупу, нередко изобилующую мышиным пометом. Потом нашел нам надомную работу – надо было из проволоки делать крючки и петли для солдатских шинелей. Через час такой работы наши нежные ручки покрывались кровяными волдырями, а мы обертывали их тряпками и продолжали работать. Эта работа давала нам хоть какие-то деньги, поэтому мы относились к ней не по детски ответственно. Ведь и за те крохи хлеба, что мы получали по карточкам, тоже надо было платить деньги.
На всю жизнь мы сохранили память о добрых людях моего родного города, которые
делили с нами последний кусок. В последующей жизни мы всегда старались быть
похожими на них, также чувствуя чужую боль и чужую беду.
Помню несчастную красавицу, парализованную и глухонемую девочку-курдянку
Бадл-мундж, что попрошайничала в нашем районе. Она была, как и я, лет семи
восьми. Каким же счастливым я себя ощущал когда мне предоставлялась возможность
сунуть ей в котомку что либо съестное, выкроенное из своего более чем скудного
рациона.
Болезнь надолго приковала Лазика к постели, и он, в отличие от своих младших братьев, пристрастился к чтению, да так, что мама отбирала у него книги и прятала. Он мог часами нам пересказывать перечитанные по многу раз книги Джека Лондона, Жюля Верна, Виктора Гюго, Фенимора Купера. Делал это живо, эмоционально, красочно. Мы с Димой, хотя и были большие озорники и непоседы, слушали его, забыв о голоде и проказах. Дразнили его «Дырявый философ», но очень уважали за явное превосходство над нами. Лазик наизусть знал целые главы из «Демона», «Мцыри», «Евгения Онегина», стихи грузинских и армянских поэтов. Очень любил Байрона и Гете. Эту страсть к литературе он сохранил на всю жизнь. Помню его бурные слезы, переходящие в истерику, когда мать, чтобы мы не простудились от холода, топила «буржуйку» книгами уникальной библиотеки отца. Я только помню, что эти книги были на разных языках и имели добротные, тисненые золотом переплеты. Немало книг было и на русском языке, среди них специальная литература по строительству и архитектуре, поэзия и проза. Отец словно чувствовал возможность гибели библиотеки. Он умолял из ссылки о том, чтобы продавали все, лишь бы дети не голодали, но библиотеку сохранили. Увы! Его письмо сильно опоздало.
Если зимними вечерами благодаря Лазику мы окунались в романтическую классику ΧΙΧ века, то летом нас целиком поглощала улица, где процветала преступность. Надо сказать, что военные годы в Тбилиси были лихие. Кто промышлял спекуляцией, кто разбоем, кто мелкими карманными кражами. Азартные игры в кости, драки, поножовщина и стрельба были обычным делом в подворотнях наших окраинных улочек. Бандиты проигрывали родных сестер, родителей. Особенно велика была преступность среди курдов, их не брали в армию, не высылали, а свою отчаянную воинственность и смелость они реализовывали занимаясь бандитизмом. Часто устраивали поножовщину на спор, при этом нередко в непосредственной близости от нашего дома, прямо за железнодорожной насыпью. В лучшем случае обходилось ножевыми ранениями, в худшем труп оставался на месте, а все остальные участники драки разбегались. Все это происходило на наших глазах. Бандитизмом занималась даже «золотая молодежь», дети видных людей. Играли даже на собственную жизнь. Мы дети восхищались бесстрашием этих головорезов. Слово «Свой», тбилисский синоним российского слова «Блатной» звучало гордо.
Диву даюсь, как при таком разгуле преступности, я не стал вором. Видимо,
все-таки − гены. Но не только. Главная заслуга в этом принадлежит моему
ближайшему окружению − семье, родственникам и соседям, которых я всегда
вспоминаю с огромной любовью и благодарностью.
Такой контраст. В доме интеллигентнейшие родственники, соседи, а рядом в
подворотне бандиты играют в ножи и «зари» (это костяшки от нард). Играют «по
крупному». А в подвале другого соседнего дома великовозрастный дебил Самвел
который по два года сидит в каждом классе демонстрирует оболтусам, что помладше
него «фокусы» с ананизмом. Вот такая среда меня и формировала.
Наш дом, как и все соседние, был буквально врыт в гору, и окна на улицу имели только фасадные квартиры. Остальные квартиры выходили застекленными балконами во внутренний двор. Наша квартира имела окна на обе стороны. За исключением зимних месяцев, вся жизнь протекала на балконах, которые были в непосредственной близи друг от друга, поскольку разделявший их двор был крохотным и всегда очень шумным от гвалта нашей детворы. Можно сказать, что это была одна огромная коммуналка. Жили очень дружно. Если и случались какие-то дрязги, то они быстро гасились. Всё-таки южане люди очень теплые по своей природе хоть и очень вспыльчивы и горячи.
Одну из комнат в нашей коммуналке занимала семья бывшей сельской учительницы тети Вартуш. Именно она осталась для меня на всю жизнь образцом интеллигентности и оказала на нас с Лазиком огромное влияние. Она много рассказывала о «прошлой жизни». Будучи барышней довольно состоятельных родителей, пошла «в народ», учила сельских детишек. Именно она привила Лазику страсть к чтению. У тети Вартуш был сын Лева, профессиональный танцор народных танцев Кавказа, и дочка Жанна, лет на 10 старше меня. С Жанной я дружил или скорее находился под ее опекой. Она обожала петь и пристрастила меня к народным и популярным песням и даже ариям из опер, я старательно записывал слова песен, но пел только когда был один. Влияние на меня Жанны было настолько велико, что под ее руководством я освоил совсем не мальчишеские занятия – научился готовить, кроить, шить, вязать крючком и даже вышивать крестиком.
В соседней с нами комнате жила одна древняя старуха, в молодости звезда сцены − Александра Владимировна, но ее все за глаза звали просто Бебера, т.е. «старуха» по-грузински. Обитатели дома очень уважали ее и делились с ней душевным теплом. Как говорят взрослые особые отношения у нее были с моей бабушкой Виргинией, поскольку она была единственным человеком в доме, в общении с которым у бабушки не было языкового барьера. Обе прилично знали французский язык.
После смерти Беберы, в ее комнатку поселили жену и дочь офицера, погибшего в первый год войны. Тетя Тамара, в противоположность тете Вартуш и моей маме, была пышная светловолосая красавица с голубыми глазами. Ее дочь, Нелька, моя ровесница, тоже небольшого роста, тоже кудрявая, но не черная, как смоль, а рыжеватая. У Нели была еще двоюродная сестра Додо, круглая сирота. Её отца расстреляли, а мать и старшая сестра медленно увядали буквально на наших глазах и умерли от чахотки. Тетя Тамара взяла сироту к себе и растила вместе с Нелькой. Мы со своими соседями по квартире стали почти одной семьей. Все радости, печали, горести, праздники – все на всех. Да, трудно жить Тбилисцу в Москве, где с соседями по лестничной площадке только «Здрасте» и «До свидания». Эх, Тбилиси, Тбилиси... Это была целая цивилизация.
Среди наших соседей по дому три семьи были тесно связаны с Театром оперы и
балета имени Палиашвили. Нас с самого детства водили туда и прививали любовь к
искусству. Сын тети Вартуш Лева профессиональный танцор, достал мне где-то
черкеску с муляжным кинжалом и учил там танцевать лезгинку и другие национальные
танцы. У меня это получалось очень неплохо.
В этом же театре я впервые встретился с Одисеем Ахилесовичем Димитриади, который
представился мне другом моего отца. Для меня его слова ничего не значили, так
как я своего отца уже и не помнил, но этого дядю я хорошо запомнил
Одно время театр меня так захватил, что я даже ставил спектакли, в которых чаще всего был единственным актером. Смотреть сбегалась детвора со всей округи. Ребятня заливалась смехом, а дядя Хазар, наш благодетель и подпольный «миллионер» тех времен, лез в свой карман и наполовину отрубленными в молодости за воровство пальцами вытаскивал нам в награду несколько красненьких 30-рублевых купюр. На них можно было купить у бродячих торговцев несколько душистых персиков, груш или яблок.
В конце войны мы, дети нашего двора, прямо под своими окнами посадили несколько белых акаций и сделали их именными. Каждый ухаживал за своим деревом. Я до сих пор помню сладковатый вкус весенних цветков и осенних рожков этих огромных деревьев нашего города, которыми мы лакомились в голодные военные годы и теперь ждали, когда же вырастут, зацветут и начнут плодоносить и наши саженцы. Они уже без нас выросли, десятки раз отцвели и отплодоносили, состарились и умерли почти все. Говорят, что одна еще цветет, доживает свой век, хотя и многие крупные ветки её уже давно высохли и отломались от старости. Наверное, моя. Я остался единственный из той оравы голодранцев нашего двора.
Город был переполнен беженцами из оккупированной части страны и раненными фронтовиками. Между фронтовиками, нервы которых были на пределе, и милиционерами часто случались потасовки, порою доходившие до перестрелок. Мы, пацаны, всегда были на стороне фронтовиков, а милиционеров презирали. В основном это были откупившиеся от призыва родственники влиятельных персон. За мелкое взяточничество их называли «кусочниками». Мы преклонялись перед солдатами и особенно матросами, подражали им и стыдились, что наш папа не воюет, а находится в заключении как «враг народа». Много было и дезертиров, которых быстро вылавливали и при сопротивлении тут же случалось расстреливали. Рынок, который был недалеко от железнодорожного вокзала, до сих пор зовут «дезертирским».
Атмосфера военного времени накладывала свой отпечаток на нашу мальчишескую жизнь. Мы устраивали бесконечные игры в войну: штабы, боеприпасы, вырезанные из дерева ружья и пистолеты, сабли сделанные из обручей бочек, бои, в которых порой случались серьезные травмы. Мы, мальчишки, и в обычной, повседневной жизни, были всегда при оружии, и это уже были не игрушечные деревянные пистолеты, а вполне себе серьезные самодельные ножи или, как было принято у шпаны, носили «писку» − половинка лезвия от безопасной бритвы. Первые ножи мы делали из больших гвоздей. Клали их на железнодорожные рельсы, ждали, когда по ним пройдет поезд, затем затачивали на булыжниках и приспосабливали какую-нибудь ручку. Но пределом наших мечтаний был финский нож. Однажды играя у соседа, увидел у него финку и стащил ее. Мама, когда узнала, отобрала ее, вернула соседу, а мне наклеила на спину надпись «вор» и выгнала во двор. Долго она не могла мне простить это воровство. Мама как могла старалась нейтрализовать влияние улицы ,но это было нелегко. Силы были неравны. Помню, когда в самые тяжелые голодные годы нашел на улице деньги и принес домой, мама меня отчитала и отправила обратно, чтобы положил туда, откуда взял.
Тем временем страшные сводки Совинформбюро, сообщающие, что фашисты все ближе и ближе, сменились на более спокойные. Положение на фронте стало улучшаться, но похоронки все шли и шли. Душераздирающие вопли доносятся то из одного, то из другого дома. Помню, что творилось в городе, когда немцы уничтожили под Керчью огромное количество армян. А на Кавказе смерть одного человека – это трагедия для всего рода. Сдерживать эмоции кавказским людям не дано природой.
Но война закончилась, и жизнь начала как-то налаживаться, появились первые коммерческие магазины «Особторги», которые народ тут же окрестил «Нюхторгами» за невозможно высокие цены. Я часто после школы задерживался у витрины, разглядывая огромный каравай белого хлеба, пирожные Наполеон, трубочки с кремом и прочие сладости, которые я видел до этого только на картинках подшивки старых журналов «Чиж». Я эту подшивку очень любил разглядывать в том числе и за «вкусные» картинки.
Весной 1948 года во двор нашего дома вошел невысокий, сморщенный человек, с выражением какой-то вины в глазах, без зубов, в байковом костюме мышиного цвета и с фанерным чемоданчиком в руке. Я сидел в тот момент на ступеньках нашего застекленного балкона где был вход в наши комнаты. Он медленно подошел ко мне и прошепелявил, глядя на меня выцветшими глазами:
- Как тебя зовут?
- Алик, − ответил я, с любопытством разглядывая незнакомца и удивляясь его ярко выраженному некавказскому акценту.
- А кто я, ты знаешь?
- Нет
- Я твой папа, − закончил он с уже мокрыми глазами и хотел обнять меня. А я вскочил, как ошпаренный, и убежал к соседке тете Тамаре. Взволнованный, я сначала смеялся, передразнивая шепелявую речь странного незнакомца, а когда узнал, что он действительно мой отец, громко разрыдался. Вот этот беззубый человек никак не соответствовал тому образу, который сложился по рассказам родственников и друзей отца. Нам рассказывали о его деловой хватке, говорили, что он мог даже из камня выжимать деньги. Человек вулканической энергии, почти Геракл.
И действительно, очень быстро я почувствовал твердость характера отца. Не могу сказать, что полюбил, поскольку побаивался, но зауважал. Он мог и пощечину залепить, но страшнее всего был взгляд его обесцвеченных на Севере выпученных глаз. Не сразу мы привыкли к человеку, который был нашим отцом. В отличие от матери он всегда был с нами строг и требователен к нашей учебе. Для нас это было непривычно. Бедной маме нечего нам было дать, кроме ласки, и мы без отца довольно-таки прилично разболтались, особенно я и младший брат.
Воспитательные методы отца быстро дали свои результаты: резко сократилось мое пребывание на улице, я взялся за учебу и стал приносить хорошие оценки. У Лазика вообще не было проблем с привыканием к отцу, его нам с Димкой всегда ставили в пример. Лишь на младшего своего сына, Диму, отец никак не мог найти управу. Димка признавал только бабушку Эгроп и ее добрейшего мужа Сергея Карповича. Характером он пошел в маминого брата Левона: очень сильный, непокорный, взрывной. Отцу никак не удавалось наладить с ним контакт, и он долго оставался для Димы чужим дядей.
С возвращением отца жизнь понемногу стала налаживаться. Отец сразу устроился на работу по своей специальности − прорабом в ту же строительную артель Ахалшени, в которой работал до ареста. Мы, наконец узнали, что такое сытость, немного приоделись, даже рассчитались с тетей Катей, которая якобы в кредит носила нам спасительное молоко. Мне много встречалось в жизни хороших и добрых людей, но эта безграмотная деревенская украинка на всю жизнь оставила в моей душе добрые всходы и чувства благодарности. Светлая ей память.
Недолго продлилось наше семейное счастье. 18 апреля 1949 года под вечер к нам зашел один священник и принес маме крохотную записку с едва разборчивым адресом и одним единственны словом «Арестован». Мама едва не потеряла сознание.
Священник рассказал, что он ехал в пригородном поезде, когда на одной из станций к нему подсели трое мужчин примерно одного возраста, один из которых был арестованный отец. Когда ему разрешили зайти в туалет, он написал на крохотном листке старым зековским способом − горелыми спичками − свой адрес и одно роковое слово. Улучив момент, когда один из охранников тоже пошел в туалет, а второй отвлекся, «выронил» записку на глазах священника, тот ее подобрал и принес нам.
Помню длинные очереди к тюремному окошечку для передач и страшные вести из маленьких зарешеченных окон, выходивших на улицу, о возобновившихся в тюрьме расстрелах, помню заплаканные лица посетителей, а временами всплески душераздирающих рыданий.
Время от времени мимо нашего дома проезжали конные подводы, заполненные трупами, кое-как прикрытыми рогожкой. Врезались в память босые ноги, торчащие из-под тряпья. Они мне потом долго и часто снились по ночам. Но только много лет спустя, работая в московском отделении Мемориала и читая документы той поры, я понял, что это были трупы не только умерших в госпиталях , но и расстрелянных людей.
Обезумевшая от горя мама пошла просить заступничества к матери одного из ближайших подручных Берия – Бахшо (Богдана) Кобулова, семью которого знала с детских лет, а сам Кобулов в юности дружил с ее братьями. Более того, его буквально спас один из братьев мамы – Левон. Он в свое время спрятал Кобулова от захвативших власть в Грузии меньшевиков в подвале дома Арутюновых на Цициановской улице.
Мать Кобулова выслушала просительницу на верхней площадке лестницы парадного подъезда, не спустившись к маме и не пригласив ее подняться, и сказала: «На днях одна несчастная женщина на коленках поднялась ко мне по лестнице, целовала мне ноги, прося помочь, но я не уверена, что смогу ей помочь». Мама ответила: «Тогда я не последую ее примеру. Если Бог есть, он все видит, все слышит и может быть поможет». Не пройдет и 5 лет как Кобулова расстреляют вместе с Берией, а всю его семью вышлют в ту самую Сибирь, путь в которую был тогда уготован нам.
Что делается с людьми, когда они получают власть? Как нормальные люди становятся палачами? Ведь был же Кобулов, наверное, когда-то нормальным человеком, если мама всегда утверждала, что она помнит его как хорошего, доброго парня...
А нам и на этот раз «повезло»: отца не расстреляли, а сослали на бессрочное поселение в Восточную Сибирь. Так судьба уже в который раз круто изменила нашу жизнь. Начался новый ее этап под названием «Сибирская ссылка»...

Дионисиади Николай в ссылке пос Заводовка Красноярский край 1949.jpg
Отца арестовали в апреле 1949 г. и только в августе объявили приговор – бессрочная ссылка на поселение в Сибирь за шпионаж. Еще два с лишним месяца ожидания, и в ноябре его отправляют в Красноярский край, в поселок Заводовка.
Тем временем в Грузии начались массовые выселения целых народов и, в частности, греков. Не обошла эта участь и семью очень близких друзей нашей семьи Онуфриади. Сотни семей в одну ночь, практически без вещей и почти без продуктов, грузили в товарные вагоны и увозили в неизвестном направлении. Некоторые не доживали до пунктов назначения. Переселяли людей в основном в голые необжитые степи Казахстана. Много погибло там людей, умирали от несносной жары, от укусов змей и скорпионов, от голода, от инфекций.
До конца 40-х годов мы не чувствовали национальной проблемы, ее не было ни в школе, ни в общении с соседями. Мультиэтничность была обычным явлением. Впервые я столкнулся с «национальной проблемой» при получении паспорта в начале 1950 г. (из-за ошибки в Свидетельстве о рождении я получил паспорт в 15 лет). В то время был так называемый «пятый пункт», в котором указывалась национальность. Моей матери в милиции настоятельно посоветовали записать меня армянином, а не греком. Она не посмела возразить и решила, что со временем можно будет все изменить. Я тогда не придал этому значения, но когда повзрослел и попытался привести в соответствие свою фамилию и национальность, получил категорический отказ, в то время как ошибку в фамилии и дате рождения мне изменили без проблем. Я никоим образом не считаю что армяне хуже греков, тем более, что тогда я был больше армянином, чем греком, но терпеть не могу людей которые из коньюнктурных соображений скрывают свою национальность. У меня очень много пороков, но беспринципностью которая в нашей стране возведена в принцип, даже в ранней юности не страдал. Зато от юношеской принципиальности страдал всю жизни и по сегодняшний день страдаю. "Комсомольская закалка" меня прилично поуродовала.
Едва отца этапировали на место ссылки, он стал писать нам письма и описывать свое житье. Работает он в Заводовском химлесхозе треста “Красхимлес” на добыче сосновой смолы. Закончил курсы мастеров. По всем предметам получал одни пятерки. Только по текущей политике парторг с четырехклассным образованием не мог поставить “отлично” политическому ссыльному. По математике учительница не успевала дописать на доске пример, а ссыльный грек уже называл результат. Истинный “Арифмометр”. Авторитет отца рос очень быстро. После окончания курсов его зачислив формально на должность мастера подсочки, на самом деле посылают строить в 14 км. от Заводовки, в девственной тайге новый поселок Тарапачет. Что означает таинственное слово "подсочка", я узнал только через год.
Об условиях, в которых он жил, можно было судить по фразе, которой заканчивались некоторые письма: «Писать кончаю, лучина догорает». Из писем мы узнали, что к некоторым поселенцам приезжают жены. Наши родственники, соседи и друзья убеждали маму не торопиться с решением: ведь в Тбилиси мы не одни, в тяжелые годы войны все помогли нам выжить, не оставляли в беде, и теперь, когда жизнь налаживается, они не оставят нас, нам нечего бояться. Но мама уже решила все сама.
В конце августа 1950 года мы собрали свои жалкие пожитки и, бросив все, что так нам было дорого, навсегда покинули нашу светлую квартиру с большими окнами, из которых была видна великолепная панорама всего центра "старого" Тбилиси, этого замечательного, гостеприимного города. Нас провожают на вокзале не только многочисленные заплаканные родственники, друзья, соседи, но даже и не очень близкие, но сочувствующие нам люди. Только подумать, добровольно… в Сибирь… с тремя детьми!!!...

Дионисиади Николай в ссылке с женой
Это был прыжок в неизвестность. О новом месте нашего жительства мы знали только по письмам отца и «лакированному» фильму «Сказание о земле Сибирской»…
Чем ближе мы подъезжали к месту нашего назначения, тем труднее было оторвать нас от окон вагона. Тайга, тайга, тайга… Вековые красавицы сосны стоят одна к одной. Навстречу все чаще попадаются товарняки с этими же красавицами, но спиленными, обрубленными и со странными стрелками на очищенных от коры стволах. Как мы узнали позже, это шрамы от «подсочки», которой заняты, в основном, все химлесхозы.
И вот наконец наша долгожданная станция Тинская. Стоянка всего три минуты. Нас встречал не отец, у него не было разрешения на отлучку с места поселения. Встречают «возчики» на конных подводах. Они привезли на станцию «живИцу» - основной продукт производства и Заводовского химлесхоза – то есть сосновую смолу, для добычи которой и калечились вековые красавицы-сосны и судьбы людей.
На платформе оживление и отборный мат. Мама в шоке... Мы конечно знаем величие и могущество русского языка, но раньше мы слышали этот лексикон только во время драк и скандалов. А тут дружелюбные, радушно улыбающиеся мужики гостеприимно встречают нас и … нет-нет, они не бранятся, просто, оказывается, здесь так принято разговаривать...
Они уже сдали на базу свое «сырье стратегического значения», загрузили свои подводы ширпотребом, и мы сразу же отправляемся в путь. Упряжек c полдюжины. Лошадки клячи низкорослые, чуть больше наших кавказских ослов но с довольно густой шерстью. С нашими скакунами ничего общего. Зато говорят морозоустойчивы. Их в Якутии разводят. Телеги .груженые телогрейками, валенками, кирзовыми сапогами, керосином, разными хозтоварами и продуктами – сахар, крупы, макароны, водка. Водка – это товар особый, как и живица, товар «стратегического значения». Без водки никуда, без нее ни праздников, ни горестей, ни просто повседневной человеческой жизни.

Дионисиади Николай в ссылке с семьёй
Путь лежит дальний – 50 км строго на север, в место ссылки отца, Заводовский химлесхоз. Мы сидим на мягких ватниках. Разговор как-то не клеится. Эта завораживающая дорога не дорога, а – длиннющая просека, и не видно ей кажется ни конца ни края. Вся она разбита колесами грузовых автомобилей которые ездят только жарким летом и после первых заморозков, а сейчас уже поздняя осень. Кругом вековые сосны в полтора обхвата. Ветра вроде нет, а лес шумит тревожно Это где то высоко, высоко над нашими головами едва колышутся только верхушки сорокаметровых великанов. То здесь то там слышится дробь дятла добывающего себе на пропитание древесных жучков и червей из подгнившего сухостоя. Где то вдали перекликаются между собой кукушки отсчитывая оставшиеся нам годы жизни. Перед головной подводой то и дело выпархивают целые выводки рябчиков. Это они здесь поклевывают мелкое камушки которые необходимы всем пернатым для переваривания пищи в желудке. Вот почти над самой головой пролетел огромный глухарь, а чуть в стороне от нашего маршрута важно восседает крупная сова. Все так непривычно, величественно и страшно. Возчики хлещут своих кляч кнутами и сдабривают свою смачную речь посвистыванием, которое эхом возвращается к нам. Мое детское воображение сразу рисует картину пересвистывания с неведомыми разбойниками, которые преследуют нас, чтобы в удобный момент убить и ограбить.
Отмотав полпути, устраиваемся на ночлег около огромной поленницы дров, заготовленных кем то на зиму. Разводим огромный костер, расстилаем ватники и начинаем трапезу, ловким привычным движением рук открываются сургучные пробки водки «Белая головка». Этот «сучок» (так называлась некачественная водка, приготовленная из опилок) разливается по граненым стаканам почти дополна. У нас глаза лезут на лоб. Мы знаем, что такое водка. Кавказская чача покрепче будет, но стакан водки за один прием?!... Это фантастика. Долго уговаривают маму, предлагают «огольцам», то бишь нам. Предупреждают, что ночью замерзнем и, не найдя понимания, с дружным «Будем!» опрокидывают стаканы. Для нас это экзотика. Мы об этом ни в книгах не читали, ни в кино не видели, но отныне такая картина станет нашей повседневностью на долгие годы.

Заложив по стакану, наши возчики мирно спят, завернувшись в теплые ватники. А мне не спится, я с ужасом думаю о свисте, сопровождавшем нас всю дорогу. В довершение страшной картины прибавился ухающий и завывающий звук, никогда в жизни ничего подобного я не слышал. Так всю ночь я и продрожал как осиновый лист и только утром выяснил источник леденящего кровь звука, им оказался безобидный филин…
К вечеру второго дня нашего путешествия мы добрались до «столицы» химлесхоза – поселка Заводовка. Первое чувство – огромная радость, что мы опять все вместе. А дальше потекла наша убогая сибирская жизнь политических ссыльных к которой мы совершенно не были подготовлены. Ни морально, ни физически. Особенно бедная мама. Это как бурого медведя переселить в заполярье, а белого на экватор. А мы ведь даже не медведи. Мама с раннего детства очень болезненная, слабенькая. Я уж не говорю о том, что вся огромная семья ее, несчастную сиротку, лелеяла, берегла как зеницу ока. А десять лет хронического голодания здоровья тоже не прибавили. Мы с Лазиком тоже далеко не богатыри.
Население в поселке почти сплошь одето в точно такие ватники, что везли и мы. От мала до велика. Называют по разному. Телогрейка, ватник, фуфайка. В них и на Зоне и на воле и в селе и в городе. Почти вся Сибирь.
Заводовка – небольшой поселок в полторы улицы с четырьмя большими бараками и примерно пол сотней бревенчатых изб с приусадебными участками. Имелась большая бондарная мастерская, где делали бочки для живицы и солений, кадушки для бани. Была кузница, пекарня, обширный конный двор, баня, школа и клуб, в котором по выходным устраивались концерты и танцы под баян, скрипку и духовые инструменты. Все это благодаря ссыльным Прибалтам и немцам, среди которых оказалось много музыкантов, были даже с консерваторским образованием.

Основное занятие проживающего в поселке населения – добыча живицы, которая служила сырьем для химической промышленности. Такое название сосновая смола получила за свое свойство заживлять раны на коре и защищать дерево от высыхания. Сосновый лес вокруг поселка был разделен на несколько участков по 8-10 тысяч сосен. Стволы сосен очищали от коры и делали глубокий вертикальный надрез, и от него еще надрезы под углом 45º. Чтобы получить больше смолы, надрезы периодически приходилось добавлять, и через несколько лет получался рисунок стрелы. Внизу закреплялся жестяной или керамический стаканчик, куда начинала стекать та самая живица, из-за которой весь сыр-бор и человеческие трагедии многих тысяч семей всех национальностей. Надрезы делали вздымщики, а собирали ее в ведра и затем затаривали в бочки в основном женщины - сборщицы. Работа и у тех и у других адская. Плановую норму живицы надо было собрать за короткое знойное лето, а для этого каждый день надо было обработать несколько тысяч деревьев. Мало того, что за день нахаживали до 20 км и при этом не было никакого спасения от комаров и прочего гнуса, так еще подстерегала опасность наткнуться на хищников, бродящих в поиске добычи. Медведь здесь редкость, а вот рыси встречаются чаще. Эта дикая кошка очень опасна тем, что бросается с дерева прямо на загривок и ружье здесь не поможет, а только хороший нож, но и им нужно владеть мастерски, У каждого зимой и летом за голенищем сапога или валенка большой нож. Но самым страшным зверем в лесу является беглый "зек" из уголовников, готовый убить любого, кто попадется ему на пути, из-за куска хлеба или из-за страха, что его обнаружили и могут "продать".
На лошадях бочки с живицей вывозили из леса на центральный склад, а потом, как могли, доставляли на станцию Тинская и дальше по железной дороге везли на переработку в скипидар и канифоль, которые использовались в том числе и в военной промышленности.

Весь процесс получения смолы назывался подсочка, а производственное хозяйство с главным поселком и несколькими мелкими селениями – химлесхоз. Обычно после того, как химлесхозы выполняли свою задачу, выжимая из деревьев все соки, их сменяли леспромхозы уже не с ссыльными, а с зеками, которые спиливали весь этот лес, оставляя кучи мусора в виде щепок и обрубленных ветвей, основной источник лесных пожаров.
Сразу после приезда нас с Димой зачислили в местную 7-летнюю школу, я пошел в 7-ой класс, а Дима в 5-ый. Лазику предстояло закончить 10-й, а ближайшая 10-летняя школа находилась за несколько десятков километров, в райцентре – Нижнем Ингаше. Так что учился он в школе заочно и одновременно сам учительствовал в поселке Гореевке, в нескольких километрах от Заводовки. Гореевка – крохотный поселок, подразделение химлесхоза, где с десяток домов и несколько учеников начальных классов. Там Лазик и жил, бывая у нас в Заводовке по выходным. С гордостью рассказывал как он вместе с начальником Гореевского участка "завалили сохатого". Сибирский сохатый (лось) это вам не подмосковный, почти домашний. Он одним ударом копыта 10-сантиметровое дерево перерубает как спичку, а раненный страшнее медведя.
В моем классе было 9 человек восьми национальностей. До сих пор помню их имена, а с некоторыми дружен и по сей день. Русский Ваня Борзов, батумская гречанка красавица Виолетта Мустакопуло, латыш Янис Бульбик, сын учительницы немецкого языка, немцы Нина Гергель и Олег Шмидт, финн Тойво Курхинен, были еще литовка и эстонка. Все, кроме Вани, ссыльные. Жили в Заводовке представители и других наций, но никто не преобладал. Советская власть умела ассимилировать, и мы дети тогда не видели в этом ничего плохого. Задумываться стали уже в зрелые годы.
Мой интернационализм укреплялся и стал твердым принципом всей дальнейшей жизни. Свидетельство тому – мои внуки, в жилах которых течет кровь шести национальностей. Правда, в последнее время меня стали мучить сомнения – хорошо ли это. Не мудрее ли те народы, которые оберегают свой этнос, избегая смешанных браков, и сохраняют свою самобытность? Если мы заносим в Красную книгу исчезающих животных и растения, то не пора ли заносить туда и некоторые исчезающие народности? Ведь язык и культура каждого народа – достояние всего человечества. Их надо беречь.

Мои одноклассники встретили новичка радушно, но вот мальчишки из других классов решили «проверить» чужаков. В жестоких драках мы с Димой отстояли свою честь, после чего нас признали достойными дружбы. Особенно я сдружился с Тойво Курхиненым. Он был младшим ребенком в большой финской семье из деревни Куялово под Ленинградом. В конце 30-х годов его отца расстреляли, а мать с четырьмя детьми в начале войны выслали в Сибирь. Еще в дороге она простудилась и умерла в больнице станции Тинская, даже не добравшись до Заводовки. Тойво стал для меня родным братом, и сейчас я рад осознавать, что наша дружба выдержала все испытания временем и сохранилась до глубокой старости. Уместно заметить, что Куялово было финской деревней и первое слово, которое Тойво произнес по-русски, было слово "блядь", а сейчас он на "родном" языке и двух слов не знает, ни то чтоб выругаться. Да и нет у финнов матерных слов. Обыденная сцена из тех времен: почти все прибалты скандалят на своем языке, руками размахивают, а матюгаются по-русски.

Вскоре меня избрали секретарем школьной комсомольской организации. Я был очень горд этим и мне хотелось в новом качестве сделать что-то очень нужное и значительное. Услышал, что где-то за болотами, недалеко от Краслага-16, в 3-х км от Заводовки, находили куски каменного угля. И вот в начале зимы я предложил организовать геологическую «экспедицию» по поиску залежей каменного угля, так необходимого Родине. На мою авантюру откликнулись почти все комсомольцы, и мы по первому снегу на самодельных лыжах двинулись в путь. Мороз по сибирским меркам был пустяковый – градусов 15, но и он не для меня. Даже сравнительно теплые тбилисские зимы я переносил плохо. Вот и сейчас и полчаса не прошло, как у меня замерзли руки в рукавицах из собачьей шкуры и ноги в валенках, от боли потемнело в глазах. Когда друзья заметили, что я совсем плох, решили устроить привал с костром. Племянница директора школы без задней мысли, исключительно из-за заботы обо мне расстегнула ватник и велела мне сунуть руки ей в подмышки. От прикосновения к горячему телу уже взрослой, кровь с молоком, пятнадцатилетней девицы у меня перехватило дыхание, мне казалось, что даже моя смуглая кожа не может скрыть того, что я покраснел как рак. Но никто ничего не заметил или не придал этому значения, а я еще долго не мог отойти от охвативших меня "животных чувств". Ах, этот взрывоопасный коктейль из греко-армянской крови, с небольшой примесью еврейского бальзама. Слишком рано я созрел и гормоны во мне уже тогда фонтанировали, но "бодливой корове Бог рог не дал". Ростом не вышел, и это наложило отпечаток на всю мою непутевую жизнь...
Итак, каменный уголь мы нашли и были совершенно счастливы. Написали о своих находках районному начальству и к Новому году получили ответ, что это отроги Канско-Ачинского месторождения и промышленного значения пока не имеют. Мы, конечно, были разочарованы, т.к. уже мнили себя героями сталинских пятилеток, но утешали себя тем, что в письме было слово «пока». Это слово оказалось пророческим: через четверть века, когда я буду работать в Министерстве энергетики и электрификации СССР, начнется промышленная разработка этих залежей.

Жизнь в Сибири совсем не похожа на ту, которая была в родном Тбилиси.
Убожество быта и духа горстки коренного населения – «чалдонов» - и подавляющего
большинства ссыльных старожилов действовали угнетающе, нагоняя страшную тоску.
Скоро мы привыкли к поголовной матерщине и пьянству, как к обыденному элементу
быта, но были вещи, которые граничили с первобытной дикостью, к чему привыкнуть
было невозможно. Например, хозяйка дома, в котором нас временно поселили сразу
после приезда, только что давившая вшей и гнид в головах детей с помощью ножа,
потом спокойно вытерла этот нож о подол юбки и стала резать им хлеб... И это
была не какая ни будь дремучая деревенская бабка, а жена начальника планового
отдела Химлесхоза. Так сказать "сливки местного общества".Не мог я привыкнуть и
к здешним сортирам. Стены дощатых «мест общего пользования» (обычно один на
несколько домов) были, внутри вымазаны калом… Большая часть населения вытиралась
пальцем… Я уж не говорю о том, как ловко сморкались, зажав одну ноздрю пальцем.
Надо ли говорить про зубные щетки? Я и сам шесть лет о них даже не вспоминал.
А ведь какие люди выживали в этой дикости. От "недобитых аристократов" до
"истинных коммунистов". И в самом деле, каких людей я встречал потом на
сибирских просторах... Костьми элиты многих наций удобрена земля российская.
Весной начинались побеги заключенных из "Зоны" Краслага-16, находящегося в трех километрах от Заводовки. Беглые зеки были очень опасны, встреча с ними не сулила ничего хорошего, т.к. свидетелей они, как правило, в живых не оставляли, терять им было нечего. Однажды в одном из хуторов недалеко от нашего поселка, ради съестного, они вырезали целую семью. Если удавалось напасть на их след и поймать, то «стрелки» (охранники лагеря из внутренних войск) с ними тоже не цацкались, а расстреливали сразу на месте, и составляли Акт, "за попытку к бегству». Сейчас я понимаю, насколько мы рисковали, когда довольно часто компанией уходили в тайгу с ночевкой, да еще костры разжигали…
«Стрелки» тоже были под стать тем, кого охраняли. Нередко они, вооруженные до зубов, отправляемые на ловлю беглецов или просто находясь в увольнении, приходили к нам в Заводовку, напивались как свиньи и зверствовали как самые настоящие уголовники. Однажды вечером по забору нашего огорода прошлись автоматной очередью. В тот момент мы все были дома и лепили пельмени. С нами была и друг семьи Зоя, жена нашего "надзирателя" и золотого человека, молодого лейтенанта-чекиста Виктора Александровича Полухина. Этих инцидентов побаивались даже наши гэбэшники, но управу на распоясавшихся солдат найти не могли. Нередки были и массовые драки с местными парнями из-за девок. Как-то нашего Димку избили "ни за что ни про что", зуб выбили. Просто под руку попался, и один. В другой раз Димкины друзья встретили ни в чем не повинного солдатика, и его избили "в отместку". Так вот и жили в атмосфере взаимной ненависти. А нас с Октябрятских и Пионерских лет учили, что "Народ и Армия едины".
Вспоминаю деталь из тбилисских времен. Когда отца в составе целой партии арестованных по второму разу должны были этапировать в ссылку, мама и еще несколько женщин хотели пойти на станцию и хоть со стороны увидеть своих родных, Их встретил знакомый уже возвращающийся со станции и с ужасом сказал: "ради бога не ходите туда, это не солдаты, а звери. Они, русские, не знают сострадания, за десятки метров затворами винтовок щелкают и начинают целиться". Неужели это те самые русские солдаты которые нас спасли от гитлеровцев? Не мог я себе этого представить. Те самые, к которым мы, мальчишки бегали в госпитали, чтобы послушать их подлинные рассказы об истинном героизме русского солдата. Мы ими восхищались, а они нас иногда даже угощали, какой либо едой. Ведь раненных кормили не так уж плохо, как нас "иждивенцев". Да и мы были очень сердобольные. Нередко последним куском и сами делились с военнопленными немцами, которые в огромном количестве работали на разных строительных объектах. И об их "подвигах" слушали с большим интересом, И вовсе не казались они такими уж страшными как в художественных фильмах.
Еще одна категория обитателей Краслага, с которыми мы постоянно сталкивались - так называемые "расконвоированные". Это не очень опасные уголовники, которым немного осталось сидеть. Они, как правило, сотрудничали с администрацией. Вели себя намного приличнее "стрелков". Им кроме водки и баб ничего не было нужно. Закоренелые зеки их презрительно называли "вертухаями". Некоторые из них после "отсидки" оставались со своими "подругами" и обживались в Заводовке. Ведь не у многих заключенных сохраняются семейные связи после многих лет в неволе, и есть куда ехать. Не всех ждут... Ведь "сроки" у нас страшные, даже за совсем "нестрашные" правонарушения. Не страна, а сплошная "зона".
Целыми днями громкоговоритель, установленный на крыше конторы химлесхоза, оглашал весь поселок и окрестную тайгу то сообщениями о «наших трудовых победах», то современными оптимистически бодрыми песнями, то тоскливыми народными. В них так понятны были чувства замерзающего где то в степи ямщика, забайкальского бродяги, узника Шлиссельбургской крепости, моряков, чей след затерялся в Северном море... И в эти минуты хотелось выть волком от чувства абсолютной безысходности.. Больше всего угнетало немыслимое расстояние до родного мне Тбилиси. О пассажирской авиации мы тогда и не слыхивали, а доступным транспортом сюда нужно было добраться две недели. Жизнь в Тбилиси, с его цивилизацией, театрами, родными, друзьями казалась миражом, чем-то нереальным. А тут... Тайга, тайга, тайга без конца и края. Страх перед лесными пожарами пожирающими целые регионы. Никогда не забуду, как я километров восемь бежал заливаясь слезами предупредить жителей Заводовки, что надвигается низовой пожар, а потом и сам с товарищами боролся с огнем. Тогда Бог нас миловал и на кроны деревьев огонь не перекинулся, иначе нам всем был бы конец. Верховой пожар я видел только с безопасного расстояния когда ходил на теплоходах по сибирским рекам. Очень величественное и страшное зрелище. Распространяется с такой скоростью, что редкого зверя не догонит. Они обычно бегут едва учуяв опасность за многие километры.
Тем не менее надо было жить и выживать в сложившихся обстоятельствах.
Вскоре после приезда нам выделили отдельное жилье – половину добротного бревенчатого дома, состоявшую из «столовой» – часть комнаты с грубо сколоченным столом, лавками, топчаном и полками для посуды, и через дощатую перегородку – «спальни» с тремя топчанами. Вот и вся нехитрая мебель… Одежду развешивали на гвоздях по стенам. Около входа располагалась огромная печь, часть ее представляла собой плиту, на которой готовили еду. От входа комнату отделяли просторные сени, где стояла огромная 200-литровая бочка с квашеной капустой, кадки с солеными груздями и огурцами. Весной ставили еще одну 200-литровую бочку, которую заполняли березовым соком, кидали туда корки черного хлеба и в результате получался шикарный березовый квас, отменно утолявший жажду все жаркое лето. Кроме того, на зиму запасали протертые с сахаром ягоды – клюкву, малину, бруснику, чернику, красную и белую смородину. Отсутствие голода было несомненным плюсом нашего сибирского житья в сравнении с голодными годами в Тбилиси. Сибирь щедра, только не ленись, работай.
У нас было достаточно большое хозяйство. За поселком было картофельное поле, а на приусадебном участке выращивали огурцы, капусту, горох, стручковую фасоль, помидоры, правда они не успевали набрать спелую красноту и дозревали до зимы в валенках на печке. На зиму все подполье засыпали картошкой (до 50 мешков), чтобы хватало и нам, и корове с теленком, и трем хрюшкам. У нас было все свое – мясо, молоко, сметана, творог, сыр, простокваша. Все хозяйство держалось на маме. Удивительно, как она, не привыкшая к работе, с детства избалованная любовью и заботой близких людей, безропотно впряглась в эту работу и управлялась с хозяйством в очень тяжелых условиях, особенно зимой. И еще находила силы баловать нас вкуснейшей выпечкой. Но иногда на маму накатывались страшные приступы головной боли, до потери сознания. Местный фельдшер только разводил руками, не в силах ни поставить диагноз, ни как-то помочь ей. Главными мамиными помощниками были мы с Димой. Самые тяжелые работы (особенно зимой) – воду натаскать, дров нарубить – на Димке, несмотря на юный возраст, он был очень сильный. На мне – помощь в огороде и чистка хлева. Зимой хлев приходилось чистить чаще, поскольку на морозе навоз намертво примерзал к полу и тогда его приходилось долбить ломом. Мы, мальчишки, даже научились доить корову.
Отец тем временем становится «большим начальником» поселкового масштаба. Он работает в должности прораба и на нем вся инфраструктура Заводовки – лесопилка, столярка, гараж, электростанция, кирпичный цех и даже баня. Практически он все это и создавал. Он уходил в шесть часов утра, забегал только поесть и возвращался домой поздно вечером. Он пользовался большим уважением и авторитетом в поселке. У нас появились друзья. Среди самых близких друзей нашей семьи – греки Мустакопуло, армяне Геворкяны, евреи Каганы, абхазец Цейба, мои школьные учительницы, молоденькие, чуть старше Лазика, и как это ни странно, семья лейтенанта из комендатуры (орган, надзирающий за ссыльными) Виктора Полухина.
Надо сказать, что сибирская жизнь проявляла характеры людей, ярче высвечивала и хорошее и лютое, невзирая на то, ссыльный ли это, уголовник или охранник. Среди всех этих категорий поселенцев были и звери, и очень достойные люди. Виктор Полухин как раз и был тем человеком, которого служба в органах, не испортила и не ожесточила. Я его запомнил как идеалиста и романтика, а еще как страстного охотника. Наша дружба будет продолжаться и после окончания нашей ссылки, когда после 1955 г. он уйдет в отставку и переедет жить в Подмосковье.
О нравах многих ссыльных я уже упоминал, но были среди политических и люди очень образованные, некогда занимавшие высокое положение в обществе, настоящие интеллигенты, как беспартийные, так и принципиальные и истинные коммунисты. Им местная детвора сибирских захолустий многим обязана своим дальнейшим культурным развитием и образованием. Мои сверстники и друзья, выбившиеся «в люди», с большой благодарностью вспоминают этих ссыльных, которые привили им жажду знаний.
Необходимость всерьез обживаться в тех краях на долгие годы, а возможно и навсегда, вынуждала ссыльных как-то скрашивать дискомфорт быта, приспосабливаться к обстоятельствам. Интеллигентные прибалты организовали в клубе художественную самодеятельность, музыкальные вечера и танцы по выходным. В школе – своя «труппа». Я, устраивавший еще в Тбилиси спектакли для всей улицы, играю в «Хижине дяди Тома» негретёнка, а в «Молодой гвардии» Радика Юркина.
Иногда к выходным дням до Заводовки добиралась кинопередвижка. Тогда приходили в «столицу» Химлесхоза и жители ближайших хуторов. Фильмы крутили по частям. Каждые 10 минут перезарядка аппарата. Позже появились новые, узкопленочные 16 миллиметровые аппараты, и перезарядка производилась через 30 минут, но старые заезженные киноленты часто рвались, и тогда включался свет и молодежь кричала: «Киномеханика на мыло!!!» После кино всегда танцы. Из клуба, находящегося на окраине поселка, по единственной улице расходимся кучками, частенько в кромешной темноте. Ведь электрических фонарей у нас и в помине не было. А примитивный пароэлектрогенератор, работавший на дровах, выключался в 10 вечера. Если ночь выдавалась безлунная, то в полном смысле слова, вытянутой руки было не видать. Горожанину, да и большинству современных селян трудно это представить. Чтобы подбодрить компанию молодежи, гармонист, «первый парень на деревне» растягивает гармонь, и на все село звучат матерные частушки. Чем темнее ночь, тем забористее частушки. Парни горланят, к примеру: "Я Матаньке сделал пузо, повели меня в Нарсуд, впереди гармонь играет, сзади выблядка несут!!!" Девки визгливо продолжают тему: «Подружка моя, я тебе советую, никому ты не давай, заклей п**ду газетою!!!» Таких «перлов» народного творчества, я помню много, несмотря на многие десятки минувших лет.
Еще одним «событием», вносившим оживление в нашу повседневность, были банные дни по воскресеньям. С утра до обеда мылись мужики, после обеда – бабы. Надо сказать, что я был отнюдь не из самых застенчивых, но привыкнуть раздеваться догола при еще нестарой банщице-соседке так и не смог, все прятался за другими, что всегда было предметом шуток. Наиболее озорные бабы не всегда дожидались ухода последних замешкавшихся в парилке мужиков и со смехом и гвалтом врывались в помывочное отделение в чем мать родила.
Мы с Димой впитывали в себя как губка и хорошее, и плохое. Курить махорку пока не научились, а вот матюкались через несколько недель не хуже аборигенов, но только вне дома. От отца я никогда не слышал мата, он мог очень жестко разговаривать с подчиненными, но чтобы материться, упаси Бог. Поэтому дома мы не решались делиться новым богатым словарным запасом. В день своего 16-летия я первый раз попробовал водку, подражая взрослым, залпом выпил сразу почти стакан… В себя пришел только через сутки, но зато в кругу друзей перестал ощущать себя белой вороной.
По весне вместе с Димкой и нашими друзьями мы стали подрабатывать у отца в артели, производящей кирпичи для печей. Химлесхоз приобрел для этого производства полукустарную установку. Она работала только летом и за это время надо было обеспечить кирпичами новостройки до следующего лета. Почти весь труд ручной, надо было привезти глину и воду, замешать их в примитивной мешалке, потом эту тестообразную массу загрузить в так называемую «мясорубку», нарезать из «фарша» кирпичи, уложить их в печь и на следующий день вынуть готовую продукцию. Руководитель артели взрослый, остальные пацаны. Оплата сдельная, ежедневная. И вот через пару месяцев, заработав достаточно денег, я смог осуществить свою мечту – купить одноствольное охотничье ружье 16 калибра. Но вдоволь поохотиться уже не пришлось.
Я закончил семилетку и надо было думать о дальнейшем образовании. Десятилетка находилась только в райцентре. Но поступать туда не имело никакого смысла. Дело в том, что детей «врагов народа» в ВУЗы не принимали, и мы с моим финским другом Тойво решили, что если уж ехать учиться, то в Красноярск, и поступать там в речной техникум. Почему речной? Да потому, что мы романтики и оба хотим стать капитанами. Забегая вперед, скажу, что Тойво станет не только капитан-наставником, но позже займет должность главного инженера якутского речного порта. Моя же судьба сложилась совсем иначе. Но тогда, в конце лета 1951 г., мы с Тойво отправились в Красноярск навстречу своей мечте. Через два года в Красноярск приедут мои братья поступать в Горный техникум, Лазик после десятилетки на третий курс, а Дима на первый. Так была завершена еще одна глава нашей жизни, хотя Заводовка из нее окончательно не исчезла, ведь родители продолжали там жить до 1955 г., и мы наведывались к ним на каникулы.
Еще в Заводовке мы с Тойво обсуждали, на какое отделение поступать, и оба сошлись на одном варианте. Конечно же, это штурманское отделение, которое готовит капитанов. Но наш заводовский сосед, бывший моряк, поколебал нашу уверенность. Он сказал: «Сразу думайте, чем будете заниматься, если придется уйти с флота. Штурман и даже капитан сможет рассчитывать только на должность пожарника, а механик он всегда и везде механик». Причем тут пожарник, я тогда не понял, но в целом его доводы нам показались убедительными, и мы подали документы на судомеханическое отделение.
На время приемных экзаменов нас поселили в огромном спортзале техникума. Несколько десятков худых матрацев, аккуратно в четыре ряда постеленных на полу, стали нашими кроватями, но нас не очень заботили спартанские условия. Все наши мысли были о предстоящих экзаменах. Конкурс был нешуточный – 7 человек на место. Как оказалось, кроме нас еще много было романтиков, мечтающих бороздить водные просторы.
Самым волнительным моментом для меня стало прохождение медкомиссии. По действующим правилам, минимальный рост абитуриента для поступления в военизированные техникумы должен был быть не меньше 150 см, а мой рост 146… Как я уговорил врачей, уже не помню, но они, поколебавшись, дали допуск к приемным экзаменам. Если этот раз я проклинал эти недостающие 4 см, то через 4 года я им был несказанно благодарен, тогда они спасли меня от призыва в армию. Собственно говоря, призывать нас не имели права, т.к. по окончании его мы выходили офицерами, но у местных властей был недобор, и они, как обычно, игнорировали закон.
Накануне экзаменов, перед отбоем, в наше импровизированное общежитие зашел директор техникума капитан 1-го ранга Титаренко. Оглядел нас внимательно, и его взгляд остановился на мне: «А это что за негритос?». С тех пор прозвище «Негритос» закрепилось за мной до конца учебы.
По конкурсу мы прошли и нас зачислили на 1-й курс судомеханического отделения, выдали форму и поселили в общежитии техникума прямо на набережной Енисея. Форма морского офицера имела какую-то магическую силу. Едва мы ее получили вышли на бульвар прогуляться и казалось, что все девушки только на нас и смотрят.
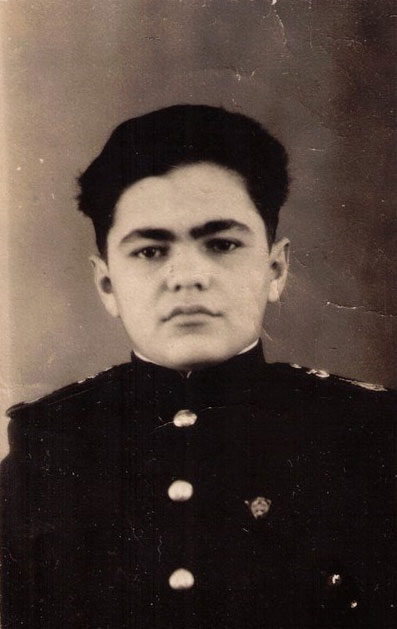
Этот так хорошо начавшийся день чуть не стал для меня и для многих моих товарищей последним днем в техникуме. Кто-то предложил «обмыть» новую форму и поселение в общежитии. Водка в розлив продавалась на каждом шагу. Красуясь друг перед другом, мы залпом выпили по граненому стакану, и дальше я уже ничего не помню… Как мне потом рассказали, наша пьяная компания, вернувшись в общежитие, вела себя, мягко говоря, не лучшим образом. И надо же случиться, что в этот вечер в общежитие пришел наш директор, чтобы поздравить нас с поселением… Не знаю, каким чудом нас не отчислили из техникума, но из общежития выселили.
Начались наши будни. Мы нашли жилье на окраине города в микрорайоне, который многозначительно назывался Кронштадт на противоположном берегу впадающей в Енисей реки Кача. Так что строчка из песни Высоцкого «Я на Качу еду плача, возвращаюсь хохоча» наполнена для меня вполне конкретным географическим содержанием. Кронштадт от нашего техникума разделял только подвесной или, как мы его нарекли, Чертов мост. Эта часть города нас прельщала не только близостью, но и дешевизной жилья. Там некоторые даже коров держали. Не только окраины, но и сам Красноярск напоминал большую деревню и, за исключением центральной улицы с каменными домами, мало чем отличался от нашей Заводовки.

Район, где мы поселились, как и все окраины советских городов, был хулиганский. Поселились мы в крохотной комнатке в ветхой бревенчатой избе, где помещалось только две кровати. На этих кроватях мы спали вчетвером. Жили "коммуной", где все общее и новые непредвиденные проблемы встали передо мной.
Я от рождения был очень брезглив, а аккуратность и домовитость мне привили семья, родня, все окружение. Уже тогда я любил и умел готовить не хуже иной хозяйки. С собой привез полный комплект посуды: от кастрюли и сковороды до чайных блюдца и ложки. Родители помогали и деньгами, но какая зарплата у ссыльного. Особенно тяжело стало, когда приехали учиться и братья. Чаще присылали по- возможности с командированными в трест земляками сало, прокрученные с сахаром ягоды, свои молочные продукты и все то, что давало семье почти натуральное хозяйство, как говорится: "что Бог послал". Мне бы каждой посылки хватило на месяц и даже больше, но я же не "куркуль", не буду есть тайком под одеялом. Все в общий котел. А когда все общее, "чужое" едят через силу, до тошноты. Колхоз есть колхоз.
После оплаты за проживание, за дрова, за учебники и прочие пособия от стипендии почти ничего не оставалось, но и стипендию надо было еще заработать, сдав экзамены без троек. Так что у нас появился дополнительный стимул к учебе. Кроме того, мы искали любую возможность подзаработать. На кондитерской фабрике денег не платили, но можно было до отвала наесться забракованными сладостями, условие одно – ничего не выносить с фабрики.

Немного денег зарабатывали в порту, на разгрузке дров с барж. Работа адская, так как носилки с дровами надо было тащить по шаткому "трапу" вверх на крутой берег. Несколько таких ходок и на руках появлялись кровавые мозоли, как в детстве, когда мы во время войны делали из проволоки крючки для солдатских шинелей. Грузчик из такого «богатыря», как я, никакой, но кушать же хочется...
Моя посуда мне не пригодилась. Не успеешь приготовить еду, как каждый лезет со своей ложкой прямо в кастрюлю. Я горячего есть не могу, а пока остынет, уже и есть нечего. А еще мои сотоварищи соревновались кто что- либо омерзительнее придумает, чтоб отбить аппетит "конкурентам". А еще иногда соревновались в поглощении еды на скорость. В этом "виде спорта" я всегда проигрывал, а мои сотрапезники еще и приговаривали: "В большой семье зубами не щелкают". Надо отдать им должное голодным меня никогда не оставляли и дурачились больше для забавы. Да и много ли мне "малышу" надо?

Ребята меня никогда не обижали, были не злые, и даже с местными "городскими" вели себя, в отличие от меня, очень робко, но между собой "шутили" как закоренелые садисты. То между пальцами ног спящего бумажку подожгут, то есть "велосипед" устроят, то башмак, привязанный на шпагате к генеталиям, на грудь спящему положат, то еще какую-либо жестокую "шутку" выкинут. Но похожие жестокости еще у Горького в "Детстве" описаны, и по сей день в солдатских казармах процветают.
Тут я впервые в жизни столкнулся с еще куда более омерзительными "забавами". Даже стыдно и противно писать, но ведь в хрестоматиях об этом не напишут, а знать грядущим поколениям надо. К примеру, один снимает штаны и на койке задирает ноги. Другой подносит зажженную спичку и из заднего прохода вырывается огненный факел. Или еще: соревнуются, кто большее количество раз или громче перднет. Мама, как то еще в детстве рассказывала про своего одноклассника в Гимназии, который случайно пукнул в присутствии девушек и со стыда дома застрелился из отцовского револьвера. Но, что взять с зажравшегося "буржуина"? "Гнилая интеллигенция", а тут - "соль земли", "гегемон".

Почти все мои сотоварищи были из глухих "медвежьих" уголков. Двое, вообще, и семилетку то заканчивали в школах-интернатах далеко от своих "неполных" и "неблагополучных" семей.
Мы все стирались прямо там, где и мылись, в бане, но некоторые даже сменного белья не имели, и, помывшись, снова одевали выстиранное, и хорошо отжатое белье. И это в 30- 40 градусные морозы. Не помню, чтобы кто- либо из нас простужался. Хозяйки изб, в которые мы селились, тоже были не из "благополучных". Какая успешная семья примет на постой за гроши кучу голодранцев? Да и много ли было тогда нормальных семей? Совсем недавно закончилась война, которая сильно выкосила и Сибирь, а водка довершала свое черное дело. О наркотиках тогда и не слыхивали. Что такое гниды и вши я узнал еще в военные годы в Тбилиси, когда бедная мама стригла нас с большим скандалом наголо, или мучила частым гребнем почти ежедневно, а здесь они были обычной деталью быта. На них просто почти не обращали никакого внимания. Ну как мухи на юге, или тараканы в казенных общежитиях.
Учеба у нас с Тойво шла неплохо. Основные предметы нам давали в объеме институтской программы. Преподаватели в течение учебного года три шкуры с нас драли, но на экзаменах были милостивы. Знали, что большинство из нас живет впроголодь, а одна тройка лишит нас жизненно необходимой стипендии.
После первого курса мы проходили производственную практику на судоремонтном заводе, где осваивали профессию слесаря и тайком от руководства делали для себя финки, кинжалы и кастеты. На окраине города, где мы жили, наводненной шпаной, такие средства самообороны были не лишними.

Жизнь наша была такой насыщенной, что казалось в сутках больше 24 часов. Мы успевали учиться и работать, петь в хоре, участвовать в художественной самодеятельности, заниматься спортом. Особое место занимала в нашей подготовке стрельба. Родине были нужны "Ворошиловские стрелки" - техникум то был военизированный, и мы выросли в ожидании "Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет". Конечно все мы были членами ДОСААФ ( Добровольное общество содействия Армии, Авиации и Флоту). Там нас учили азбуке Морзе, семафорной (флажковой) азбуке, вязать морские узлы и многому другому, что могло пригодиться в военное время. А я еще ходил на бокс и был активнейшим членом Бюро Комсомола судомеханического отделения. По праздникам устраивали вечера с танцами, куда приглашали девочек из педагогического и медицинского училищ. При входе в спортзал, где танцевали, был буфет и там торговали в разлив водкой. Многие девчонки тоже не проходили мимо без 100 грамм. Наш строгий директор, который терпеть не мог пьяных, устраивал нам проверку: кто мог пройти по одной половице - продолжал веселье, а кто не выдерживал испытание, тот получал, как оплеуху, грозный окрик директора: «Марш домой!».
После первого курса мы с Тойво счастливые и гордые собой едем домой. Денег на билеты у нас нет, так что от контролеров прячемся на крыше вагона. От Тинской до Заводовки добираемся в кузове грузовика, который только что привез на станцию бочки с живицей. Все грузовые машины в Заводовке работали на газогенераторных установках. Почти каждый час в бункер установки надо загружать топливо, мелкие березовые чурочки. Местность холмистая, сплошные подъемы и спуски, дорога размыта дождями, поэтому часто буксуем. В результате 50-ти километровый путь у нас занимал весь день. Но вот за очередным пригорком показались первые дома Заводовки, и мы от нахлынувших чувств запеваем старую песню каторжников «Не для меня придет весна, и Дон широкой разольется…». Потом это стало традицией, каждый раз, подъезжая к Заводовке, мы затягивали эту песню.

В Заводовке меня ждали родители, братья, друзья, сытая жизнь и новенький дробовик. Однако, отец не дал мне пребывать в праздности и с первых же дней приезда зачислил меня на работу экспедитором склада готовой продукции. Я должен был принимать от заготовительных бригад бочки с живицей, оформлять накладные, и отправлять их на станцию. В свободное же время я целиком отдавался новому увлечению – охоте. Забыв об опасности встречи с беглыми уголовниками, мы с друзьями уходили в глухую тайгу за 20-25 км от дома, ночевали у костра. Огонь костра отпугивает хищников, а вот для беглых это, наоборот, приманка: у людей, ночующих у костра, всегда с собой есть еда и ружья, так необходимые сбежавшим из лагеря уголовникам.
В это лето во мне проснулся охотничий азарт. Кто не испытал трепет подбитого рябчика или другой дичи, этого азарта не поймет, в такие моменты сам становишься зверем. До сих пор не могу себе простить, сколько я перестрелял птиц, белок, бурундуков и другой живности, зачастую вовсе мне не нужных.
Лето пролетело, как будто его и не было. Осень выдалась ранняя и дождливая. Дорогу размыло, и мы отправились на станцию пешком. 50 км. В руках колымский фанерный чемоданчик отца, за спиной рюкзак, наполненный до отказа домашними продуктами. Доходим до Александровки, на полпути до станции, и устраиваемся на ночлег. В Сибири тогда в этом отношении было просто: стучись в любой дом и тебя пустят на ночлег. Постель с белым бельем как у нас дома не постелят, а пару овчиных шуб и валенки под голову дадут. Даже покормят и выпить нальют если есть.

Наступил 1953 год. Весть о смерти Сталина потрясла нас всех как гром среди ясного неба. Мы, чей отец 10 лет провел в нечеловеческих условиях колымских лагерей и затем был повторно сослан в глухую тайгу с лишением всех прав, мы, которые сами не понаслышке знали, что такое ссыльная жизнь, мы задавали себе вопрос: «Как же мы будем теперь жить без Вождя? Ведь он наше все». Некоторые плакали. Не успели очухаться от такого всенародного горя, другая страшная весть. Лаврентий Павлович Берия, которого мы, тбилисские школьники, боготворили почти также как Сталина, оказывается шпион и предатель. Мир рухнул.
Этим летом в Красноярск приехали учиться в Горном техникуме мои братья – Лазик и Дима. Несмотря на то, что они жили на другом берегу Енисея, мы часто общались и друзья каждого из нас стали нашими общими друзьями. Несколько раз к нам из Абакана приезжал Софокл Андреевич Илиопуло, друг нашей семьи. Тот самый, с кем отец оттрубил 10 лет колымских лагерей и с кем вместе возвратился в Грузию. Дядя Софо оказался прозорливее отца: как только в Тбилиси началась новая волна арестов греческого населения, он, не дожидаясь ареста, сам уехал из Батуми в Сибирь. Он справедливо полагал, что из Сибири в Сибирь не сошлют. Выбор пал на Абакан, где климат был несравненно лучше, чем в любой другой части Сибири. Кроме того, не являясь ссыльным, он мог свободно перемещаться, не испрашивая специального разрешения. Дядя Софо продолжал заниматься семейной профессией зубного врача и неплохо жил. Приезжая в Красноярск, даже помогал нам деньгами. Вскоре после того как наступила хрущевская оттепель, он вернулся в Батуми к своей семье – супруге Януле и сыну Андрею, который был чуть младше меня и которым он всегда очень гордился.
В этот же год я отправился в свой первый учебный рейс на флагмане енисейского флота корабле «Владимир Ленин». Это был самый крупный трофейный теплоход германского производства. Путь по первой воде, по весеннему паводку, держим вниз по течению Енисея, затем в верховья притока Енисея Нижней Тунгуски до поселка Тура.. Туда везем продукты, так называемый северный завоз, оттуда поплывем груженые стратегическим сырьем – графитом. Течение сибирских рек сильное – 10-15 километров в час, вниз по течению плывем по середине реки, по стремнине, где течение еще быстрее. В районе Туруханска, куда в свое время сослали Сталина, заходим в устье Нижней Тунгуски и вверх по течению плывем уже ближе к берегу, где течение послабее. Теперь можно полюбоваться дикой природой этих необжитых краев. Утром выйдешь на палубу – воздух, хоть стаканами пей, цветущая черемуха на берегу, бескрайняя тайга и дикое зверье буквально в нескольких десятков метров от корабля.
Жизнь на теплоходе разнообразием не отличается – 6 часов вахта, 12 часов отдых, график скользящий – то день, то ночь. Свободное время проводим на полубаке, кормовой части теплохода. Пересказываем старые байки, на гулкой стальной палубе выстукиваем чечетку, яблочко и цыганочку. Не умеющий плясать, как и непьющий – это не речник, а презренное существо.
В обратном рейсе тянем на длинном буксирном тросе несколько огромных барж. Каждая из них по грузоподъемности – целый железнодорожный состав. Против течения плыть трудно, ползем, прижавшись к берегу, со скоростью пешехода. От Туруханска до Красноярска плывем пол месяца. К нам много раз подплывают бакенщики, предлагающие живую рыбу. Осетры весом по 13-16 кг, стерлядь, и все за гроши. На подходе к Красноярску начинаем готовиться к большому празднику – увольнительной: утюжим наши флотские брюки-клеш и заглаживаем на них стрелки до остроты кинжала.

Следующие рейсы были до Дудинки и еще дальше. Туда "Северный завоз" оттуда норильский никель. Белые ночи так воспетые литераторами меня измучили. При свете не спится, а рано утром надо на вахту заступать.
Закончилась моя первая навигация. Их еще будет множество, за несколько лет я избороздил весь Енисей: от Красноярска до Ледовитого океана, побывал на всех основных притоках Енисея Ведь из трех месяцев летних каникул мы могли себе позволить прохлаждаться дома только пару недель, а остальное время работали мотористами, чтоб заработать немного денег на зиму. Но именно первая навигация мне запомнилась во всех деталях. После нее я по-настоящему полюбил свою профессию, которая давала возможность постоянной смены мест и знакомства с новыми людьми.
Окончание моей учебы совпало с освобождением отца. О реабилитации речь не шла, но с него сняли ссылку, восстановили в гражданских правах, а это означало, что он теперь мог жить, где захочет. Так, наша жизнь в очередной раз готовилась сделать крутой разворот... Тем временем, пока отец решал нашу дальнейшую судьбу, я готовился к госэкзаменам и защите диплома. Помню, как мы в нашей крохотной комнате, где помещались лишь кровати и маленький столик, по очереди готовили чертежи, а их у каждого было не меньше дюжины.

Надо сказать, что со мной часто происходили какие-то «истории», особенно в самые ответственные моменты жизни. Не обошлось без этого и на самом главном экзамене по двигателям внутреннего сгорания. К этому важному событию второй раз в жизни из ветхого старья сшил себе брюки. На экзамене мне попался билет про устройство газогенераторных установок и мне нужно было показать его на макете, который стоял на полу. Я нагибаюсь, чтобы его поднять и слышу, как мои «новые» брюки трескаются сзади… Теперь приходится отвечать только спиной к аудитории, чтобы не заметили экзаменаторы. Сокурсники посмеиваются, едва сдерживая хохот, преподаватели в недоумении от того, что такая серьезная тема вызывает столько веселья, а я, окаменев, что-то продолжаю вещать про работу установки. Стрессовая ситуация и адреналин в крови сделали мой ответ особенно убедительным, госкомиссия меня похвалила и поставила пять баллов.
Итак, мы дипломированные молодые офицеры. По законам того времени, молодой специалист после получения высшего или среднего специального образования обязан отработать там, куда его пошлют. Не знаю, по иронии ли судьбы или по чьему то злому умыслу я, хрупкий южанин «полтора метра с шапкой», едва выживший в Красноярском крае, по распределению был направлен к самому полюсу холода – в Якутск для работы в Ленском речном пароходстве. У старшего брата тоже распределение, его «осчастливили» Северным Казахстаном, где зимой лютые морозы с ветрами, а летом несносный зной с пыльными бурями.
<...>
Встречал меня на Ярославском вокзале отец, который мне рассказал, как он, мама и Дима оказались в Москве. Когда с него и сотен тысяч подобных ему ссылку сняли, он сразу же получил лестное предложение из треста, о котором я уже упоминал.
Совершить такой фантастический карьерный скачок он не помышлял еще месяц назад, хотя знал, что "высокое начальство" его ценит. Только представить себе – вчера ссыльный «враг народа», а сегодня один из руководителей огромной системы таких же химлесхозов всего края. Предприятие важнейшего стратегического значения трест "Красхимлес". Мама об этом не хотела и слышать. Один сын отрабатывает 3-х летний срок, где-то у полюса холода, второй, старший, Лазик тоже после окончания Красноярского горного техникума отправлен отрабатывать свой 3-х летний срок в Карагандинскую область. Еще один Богом проклятый регион в Северном Казахстане, где зимой тоже очень сильные морозы, да еще с ветром, а летом зной до 40 в тени, пыльные бури, да еще и урановые рудники рядом. Детям «врагов народа» никакого снисхождения, никакого сострадания, если даже они такие хилые, как я, «полтора метра с шапкой» и еще более хилый Лазик, который чем только в детстве не переболел.
А в Грузии у мамы огромная родня, которая в нас души не чает, привычный климат, даже сравнивать нельзя с этим диким краем и не плохим, но совсем другим народом. Отец просит у управляющего трестом Кудрявцева срок на принятие решения, берет отпуск и отправляется на «разведку» в Тбилиси.
Родня, друзья, климат – это хорошо, с работой проблем не будет, но надо где-то жить. Нашу квартиру нам никто не вернет, а родня и так живет в страшной тесноте. В огромном доме моего деда по матери Петроса давно живут чужие люди. Лишь одну комнату оставили его старшему сыну Арташу, у которого тоже два уже отвоевавших взрослых сына без собственной крыши над головой, хоть и фронтовики. Все остальные братья и сестры, кроме дяди Саши, тоже занимают по одной комнате в коммунальных квартирах.
У дяди Саши шикарный 2-х этажный дом с приусадебным участком на окраине Тбилиси. Сейчас это центр города и самый престижный район. Собственно говоря, этот дом строил мой отец на две семьи, но отца посадили, и дядя Саша, работавший в ту пору директором Авчальского стекольного завода, поселил на вторую половину дома своего заместителя, подающего надежды молодого чиновника-грузина. Тот оказался не только прекрасным человеком, но и талантливым работником. Сделав вскоре головокружительную карьеру и обретя большую власть в республике, он немало сделал для моего слишком доброго и совершенно лишенного деловой хватки дяди, который нам 10 лет заменял отца.
Итак, отец едет в Тбилиси. Путь лежит через Москву, а там посольство страны, гражданином которой он является. Ну, как не зайти, не навести справки о бедной старушке матери, слабеющую связь с которой мы потеряли сразу с начала войны, когда Мусолини, а потом и Гитлер вместе с нашими «братушками» болгарами оккупировали Грецию еще до нападения на Советский Союз.
Итак, отец, прибыв в Москву, преодолевая животный страх, идет в Греческое Королевское посольство. Кто жил в те времена, знают, что значила тогда любая связь с иностранцами, хоть ты и сам чистокровный грек.
Приняли его тепло, не так как принимают сейчас. Но, правда, и заходили тогда туда посетители чрезвычайно редко, не то что сейчас. Его внимательно выслушали и тут же отправили запрос в Министерство внутренних дел Греции. Семья бабушки была большая и найти ее следы не трудно, а отцу сказали, что у них увольняется в связи с отъездом в Грецию служащая, и он, если хочет, может занять ее место. Человеку так жестоко пострадавшему от душегубов-большевиков доверять можно, а аттестат Трапезундского Фронтистирио и образование, полученное Советском ВУЗе более чем достаточно для предстоящей работы в консульском отделе посольства. Отец, конечно, в шоке. Поселиться в Москве? Не сон ли это?
Не знаю, как все было дальше, но когда посольство согласовало вопрос со своим МИДом, а отец с матерью, в Заводовку пришла Правительственная телеграмма, которая всю Заводовку повергла в шок, т.к. там таких еще никто, никогда не видел.
Мои родители распродают свое скудное имущество, новый двухэтажный дом, в котором и пожить то не успели, и вместе с Димкой, который так и не окончит свой Горный техникум, едут в Москву. С жильем у МИДа СССР тогда были проблемы и нашим временно предоставляют однокомнатную квартиру во флигеле под консульским отделом и пару комнат в подвале основного старинного особняка по 1-й Мещанской ул. (ныне проспект Мира), дом 24.
Отец едва закончил свой рассказ, как мы подъехали сюда. Постовой у своей будки почтительно откозырял нам, и мы вошли в кованные ворота. Справа – роскошный особняк, конфискованный в 17-м году у какого-то конезаводчика. В глубине двора - 2-х этажный флигель, на втором этаже которого консульский отдел, а внизу половину постройки занимает гараж посольского "Бьюика", а половина – квартира, которую занимают родители. Димка ночует в подвале.
Не помню деталей встречи. Помню только счастливые слезы моей бедной мамы и радость Димки. Он тут уже обзавелся друзьями и ему не терпелось поскорее ввести меня в свою компанию.
В подвале особняка жила русская семья, выполнявшая функции по отоплению здания при автономной котельной, дворников, садовников и прочих вспомогательных работ, необходимых в хозяйстве. У этой супружеской пары Тюкаевых было 2 дочери – 8-летняя Верочка и 17-летняя Валя, с которыми, сначала Димка, а позже и родители уже успели сдружиться, как только умеем дружить со своими соседями мы, Тбилисцы.
У родителей меня ждал не только радушный прием, шикарный обед и уйма новых впечатлений, но и полный чемодан так дефицитного в Союзе барахла. От шикарной штатской одежды до носок и носовых платков. Швейцарские самозаводные, противоударные и водонепроницаемые часы, я еще долго испытывал в чашке с водой и бросал на пол, пока они наконец не встали, причем не во время испытаний, а при случайном падении на пол.
Всю первую ночь я спал плохо, несмотря на принятое... Отец пошел спать в покои посла , который, учитывая нашу жилищную стесненность, разрешил использовать, когда тот в отъезде. Хоть и квартира наша была во многих десятках метров от проезжей части, шум довольно редких в те времена автомобилей не давал мне заснуть, так я одичал в Сибири за 7 лет.
<...>
Во Дворце культуры Московского электролампового завода проводится «Неделя Совести». Очаровательная Елена Камбурова исполняет «Реквием» Анны Ахматовой. Он до сих пор звучит в моих ушах. Творчеством Окуджавы, Высоцкого, Галича и других бардов я буквально дышал в этом мире лицемерии, а вот эту гречанку слышу впервые в жизни. Почему? Да потому что дешевой попсой заглушили народ, как бурьян заглушает цветы.
Узнал о том, что Андрей Дмитриевич Сахаров со своими единомышленниками создают Историко-просветительское Общество Мемориал. Вступаю. Создаю у себя в Перовском районе «Общество жертв политических репрессий». В местной газете публикую призыв «Униженные и оскорбленные, отзовитесь!». Оказывается я не один. Этим же вопросом занят уже Рувим Абрамович Подрабинек, дядя известного диссидента, многие годы отсидевшего в лагерях. Параллельно с созданием нашего общества «властьпридержащие» создают свои команды националистов. Уже прославился «русский националист» с грузинкой фамилией Асташвили. Я пытался с ним познакомится поближе, клянется, что не «сексот», домой на чай приглашает. А в парке у Терелецких прудов поблизости от уголка отдыха районного руководства уже функционирует база пресловутой националистической организации Память. Мы с Рувим Абрамовичем собираем где ни будь в библиотеке собрание репрессированных, а за нашими спинами стоят странные молодчики с дебильными физиономиями перекошенными от злобы. Нам конечно очень не уютно. Все старички, да старушки, уже хлебнувшие «пролетарской справедливости». Многие даже бояться признать, что были репрессированы и пытаются узнать сначала будут ли какие-нибудь льготы. А какие льготы, когда городские власти всячески препятствуют созданию при Московском Мемориале Городского Объединения жертв политических репрессий. Выгребли из своих «сусеков» некую сомнительную личность и создают свою Ассоциацию, И нам «колбаску» обещают, но только чтоб не при Мемориале. Большинство, конечно регистрируется в Ассоциации, а те которые попринципиальнее в Мемориале. В своем районе мы создали единое Общество, а меня уговорили войти в состав Городского Совета жертв необоснованных репрессии, в котором я и проработал активно более четырех лет, пока оно не стало жертвой рейдерского захвата представителей нашего вездесущего и всеведущего органа.
Всю жизнь буду горд тем, что мне посчастливилось в Мемориале, хоть и не долго, но поработать с такими светлыми личностями, как Андрей Дмитриевич Сахаров и его ближайшие соратники.
В последних числах октября 1990 года Андрей Дмитриевич собрал весь актив Московского Мемориала и заявил, что он поставил в известность Горбачева о намерении 30 числа, в День памяти жертв политических репрессий провести вокруг КГБ Акцию. Мы станем затемно с зажженными свечами вокруг всего огромного здания на Лубянке, которое народ нарек «Госужасом». Участие добровольное, последствия не предсказуемы. Совсем недавно наши солдаты порубали саперными лопатами десятки мирных демонстрантов в Тбилиси. Знаем, что там приложили руку и местные провокаторы, но от провокаций не защищены и мы, хотя Михаил Сергеевич заверил, что со стороны чекистов стрельбы и «саперных лопат» не будет. На всякий случай надо иметь при себе Паспорта и одеться попроще. Свечи будут розданы на месте.
Я эту Акцию не забуду никогда и буду гордиться своим участием в ней, какой бы поворот не совершила матушка История.
Через несколько месяцев был снесен и памятник основателю этой адской организации Дзержинскому. Не уверен, однако, что навсегда. Вскоре после этой Акции там, рядом был установлен Мемориалом и Соловецкий камень, где мы ежегодно отмечаем печальную дату. Нас тоже с каждым годом всё меньше и меньше, а власть над нами с каждым годом издевается всё больше и больше. Раз в год к светлому празднику Пасхи куличик предложат. Пару раз в году небольшой продовольственный заказик.
Очень знаменательно было продолжение этого мероприятия. Когда почти все наши люди разошлись, принявшие участие в нашей Акции активисты и члены Демократического Союза Валерии Новодворской решили идти колонной на Пушкинскую площадь, чтоб устроить там и свой митинг. Я из любопытства пошел за ними. Где то на полпути к Пушкинской площади, я отошел в небольшой переулок, где находился общественный туалет. Там среди довольно большого количества «дружинников» с красными повязками на рукавах и с милицейскими дубинками в руках встретил студента-заочника из соседнего дома, которому иногда помогал с чертежами. Поздоровался и спросил для приличия: «Какими судьбами?». «За порядком присматриваем» ответил он, ехидно улыбнувшись. Там же околачивались и несколько «ряженых казаков». Я все понял только когда возвращался из туалета, где мой Ангел-хранитель опять меня уберег. ОМОН пропустил головную часть колонны, а «Арьергад» отсек и, избивая нещадно, стал запихивать в подоспевшие, откуда- то АвтоЗАКи. Дружинники и «казаки» им помогали.
Сейчас мой бывший сосед большой чиновник в Мэрии. Тогда он на мои автомобили «Волга» поглядывал с нескрываемой завистью, а теперь его на служебных «Ауди» возят. Выслужился, а я ему не завидую. У нас почти вся власть такая. Так было и так будет. Читайте Грибоедова, Гоголя и прочих классиков. Да и среди наших современников есть имена не менее достойные. Посмотрите, кого больше травят.
Когда Ельцин выступил на политбюро против Горбачева и стал рваться к власти мы, придурки, воспаряли духом, вот этот что надо. С привилегиями «номенклатуры» борется, в троллейбусах ездит, в районную Поликлинику ходит. И как-то невдомек нам, что все это снимает целая киносъемочная группа. У нас в Тресте на общем собрании Райком Партии крутит видео, как Ельцин в Штатах пьяный выступает. Я, дурак, с «комсомольским пылом» набрасываюсь на инструктора Райкома партии.
-А почему мы должны вам верить? Вы и Солженицына и Сахарова и большинство лучших писателей современности и многих других порядочных людей травили, выживали, высылали, в «психушки» и лагеря отправляли.
Мой Валерий Яковлевич уже трясется от страха и гнева, а новый Секретать Партбюро только ухмыляется. «Ну что взять с дурачка?» Точно так же, как я на Конакова. Может потому и был к нему так снисходителен, что сам состарившийся подросток. «Демшиза» как позже нас справедливо прозвали прагматики. А новый секретарь Партбюро уже Диордицей подобранный, знает меня как облупленного. Уже лет 15 в Тресте со мной работает. Совсем еще молодой, как все ставленники Диордицы. Мальчишкой в трест пришел и дослужился до начальника Технического отдала. Хороший парень.
Приглашает меня на встречу с Кандидатом в Депутаты Верховного Совета директором Автозавода имени Лихачева Браковым, соперником Ельцина которого «Власть» проталкивала. Ну и «встреча», вход по пропускам. Ну выступили там несколько Райкомовскх лизоблюдов «Я свой выбор сделал, за Бракова буду голосовать». Несколько поддавших работяг с завода Компрессор, во Дворце культуры которого все происходит, возмущаются, пытаются что-то за Ельцина сказать, но кто их слушает? Просто захлопывают и затаптывают специально подготовленные люди. Через несколько дней похожее мероприятие во дворце культуры Завода Прожектор. Наш парторг опять ко мне.
-Слушай, ты любишь такие мероприятия. Сходи, потом расскажешь. Очень много работы.
Он ведь в отличии от Елшинского Родионова еще и Начальник отдела. Еду. До начала мероприятие еще целый час, а уже на автобусах привезли нужных людей – бюджетников. Учителя, медики, работники разных мелких контор. В каждом ряду свой старший. Свободных мест полно, а не пускают. В 12 ряду увидел Валю Бамбуриди, школьную учительницу младших классов. Пытаюсь пройти к ней, пол ряда свободных мест. Не пускают.
-Вы откуда? – спрашивает их старшая, Завуч школы.
-Из Райкома Партии – вру я нагло и небрежно прохожу. В проходах несколько микрофонов. Рядом здоровенные молодчики спортивного телосложения. В общем спектакль я отсидел. Выступили только «нужные» люди и выдвинули «нужных» кандидатов, а остальных как и во Дворце культуры завода Компрессор, даже близко к микрофонам не подпустили. Технология отлаженная. Я киплю от негодования, а народу все по фигу. Пытаюсь найти понимание у Валентины Афанасьевны, все таки хоть и дальняя, но родственница и к тому же жена близкого друга Юры Рябова Она смеется.
-Алик, опустись на землю.
Через пару недель еще хлеще. В Малом зале Райкома Партии, Первый секретарь Шанцев Валерий Павлинович устраивает встречу актива района с редакцией газеты «Московская правда». Сутеев опять мне предлагает сходить, а я и рад старится. Меня хлебом не корми, только дай «гражданскую позицию» свою проявить. Известное дело гены проклятые. Современники и не знают, что тогда значил Первый секретарь Райкома Партии. Пред ним тогда крупные руководители многотысячных коллективов на вытяжку стояли, если не выразится пахабнее. Ну, выступил Секретарь, представил все руководство основного партийного органа города Москвы. Они рассказали о своей работе, о том какое значение имеет их газета. О том, что тиражи падают и так далее и тому подобное. Пошли вопросы, встаю и я…сейчас вы будете смеяться…или плакать.
-Скажите пожалуйста, а кто из здесь присутствующих хотел бы, чтоб после его смерти благодарные потомки сделали из него чучело?
Мертвая тишина. Потом два или три человека молвили робко. «Я..» «Я..». Председательствующий догадался, о чем это я и выдержав паузу спрашивает.
-А при чем тут это?
-А при том, что вы все довольно-таки образованные люди и сами понимаете, что мумия на главной площади страны это дикость. Чай не в древнем Египте живем, но никто из вас не посмеет в этом признаться, пока не решат на самом верху. Так и ваша, дорогие товарищи, газета. Можно не соглашаться с авторами журнала «Огонек», «Московских новостей», «Известий» и некоторых других изданий, но мы знаем позицию и Каротича и Егора Яковлева, и Голембиовского, а ваша газета «нашим вашим давай попляшем». Флюгер. Кому такая нажну? Ведь миновали времена, когда к подписке на газеты принуждали не только организации, но и все руководство различных предприятий. Теперь Валерий Павлинович, по вашему вопросу, что там за возня с Мемориалом? Я член одного из его руководящих органов, в курсе дала. Нам полгода морочат голову с регистрацией. Нас постоянно заставляют «корректировать» текст Устава, а после каждый корректировки нужно собирать Конференцию. А помещение нам обещают, но потом перед самым началом мероприятия, по указанию сверху отказывают. Последнюю Конференцию мы провели под дождем и мокрым снегом во дворе Московского Автодорожного института, а мы ведь все старенькие, «божие одуванчики». Наконец придумали в пику нам, какую-то Ассоциацию во главе с подобранным из «своих», проверенных. Но мы все равно зарегистрировались и работаем, и с нами теперь уже не только Сахаров, но и Ельцин и Попов и академики Рыжов и Афанасьев, и поэт Евгений Евтушенко и Алесь Адамович, если Вы слышали что-то о них, а сама эта организация, это и есть Совесть сегодняшней страны.
На меня несколько человек зашикали, но из Президиума не было произнесено ни слова. Выходя из зала, я лицом к лицу встретился со Вторым секретарем Райкома Партии. Она на меня смотрела, как мне показалось с состраданием. Сегодня я ее понимаю, 30 лет назад не понимал. Через пару дней ко мне в кабинет зашла бывшая, четвертая по счету, фаворитка Елшина из отдела кадров, и по-дружески доверительно поведала:
-К нам пришел кагэбэшник, взял с твое «Личное дело», закрылся в комнате Спецчасти и изучает его.
-А что там изучать целый день? Там всего то листков 10-12. Одни благодарности, три серебряных медли ВДНХ СССР, Почетный Диплом и благодарность от самого Министра по гражданской обороне. Даже благодарность от Районного Отдела милиции, за то что предотвратил ограбление сотрудницы Высшей Комсомольской школы и задержал преступника.
Да, было такое. Вспомнил я случай в сквере у нашего дома. Тогда один алкаш содрал с женщины меховую шапку и побежал. Он кричит, а я со своей овчаркой гулял
-Стой! – кричу –Собаку спущу! – а сам бегу за ним и думаю, а что буду делать если остановится? Ведь мой Динар ласковее котенка, а парень на голову выше меня и «сажень в плечах». К счастью на встречу убегающему ворюге выбегают мои соседи. Крепкие ребята его скрутили и в милицию, а в трест через пару дней, пришло Благодарственное письмо. И о моем «геройском» поступке потом судачили несколько дней. Даже премировали.
В общем Раиса сказала и ушла, а во мне все кипит. К вечеру чуток остыл. На другой день звонит начальник отдела кадров Боря Мусин, тоже ставленник нового Управляющего из вчерашних «мальчиков на побегушках».
-Александр Николаевич, тут один товарищ хочет с вами пообщаться.
Вспомнил вчерашнее и сразу понял. Что же он, не мог вчера пообщаться? – думаю я.
Захожу. Сидит молодой симпатичный мужчина. Не мордоворот, как проверяющий из РУВД (районное управление внутренних дел).
-Я из органов по вопросу множительной техники.
-Догадываюсь, милости просим. – веду его к себе в кабинет. Он у меня отдельный. Никто не помешает.
-Вообще то – говорю я – когда к нам наведываются по вопросам множительной техники всегда с обыска начинают. Да и отнюдь не так любезны, как вы, и я их всех в лицо, как облупленных знаю, а вас верно Райком Партии направил мою благонадежность проверить и припугнуть. Поздновато, не те времена. А что касается не благонадежности, так вы их во властных кабинетах поищите… - и меня понесло. Вулкан извергся. В глазах у меня помутнело. Выпалил ему все, что терзало мою совесть многие годы. И про уничтожение всего генофонда нации, про аристократию, буржуазию, работящее крестьянство, интеллигенцию и про то, что лучшие люди гибли в войнах, а вся мразь как то приспосабливалась, выживала и торжествовала победу. И про лагеря и психушки для самых порядочных людей страны.
-Кому вы «боевой отряд партии», ее щит и меч служили и служите? Тогда извергам, а в наши дни выжившим из ума маразматикам. Весь мир смеется над вашим Политбюро Да вы и сами знаете кто сгноил страну. Небось тоже на своих политзанятиях изучали «гениальные повести» Леонида Ильича. А помните, как группа лизоблюдов представила к Ленинской Премии книгу «Наш дорогой и любимый Никита Сергеевич Хрущев», а через несколько дней дали ему «по шапке» и все стали поливать его грязью? Вот так власть насиловала саму нашу совесть, а это пострашнее насилия над телом, если конечно эта самая «Совесть» еще есть. А неблагонадежных ищете в этом подвале, где девчонки за мизерную зарплату выполняют и грязную и вредную для здоровья работу.
Он только слышал и улыбался. Когда я все выпалил. Сказал ему
-Ну пойдемте, хоть для приличия посмотрите, где я размножаю против всяких инструкции тысячи разных бланков для Райкома Партиии, Райвоенкомата, Райотдела Внутренних дел и прочих руководящих организаций. Семь бед один ответ.
У меня тогда было уже много новейшей импортной техники, от чешских ротаторов и до новейших ксероксов. Я умел «доставать» и не прочь был похвастаться.
-Нет, не надо, спасибо. Теперь я спокоен за этот объект, он в надежных руках.
Он записал мне свой телефон. Брежнев Геннадий Васильевич, и очень любезно распрощавшись, ушел вверх по лестнице. Я глянул ему вслед и убедился, что в отдел кадров он уже даже не зашел. Через несколько месяцев, мне что-то нужно было узнать связанное с работой созданного нами с Подрабинеком Районного Общества жертв политических репрессий.
Звоню, спрашиваю.
- Может помните такого Дионисиади из Треста Энергомеханизация?
-Ну как же, Александр Николаевич, разве Вас можно забыть.
Я признаться был удивлен, когда он назвал меня по имени и отчеству. А ведь и правда таких дурачков как я мало.
Он выслушал меня и пожелав удачи передал трубку своему коллеге компетентному в моем вопросе. Нет, я еще раз убедился, что в этом ведомстве очень много честных и порядочных людей. Но им там тоже наверное не легко служить, зачастую, очень не порядочным начальникам. Ведь отрицательная селекция она среди людей повсеместно и не только в нашей стане. Проходимцы везде преуспевают.
Наш трест, в котором я остался единственным ветераном первого набора, разваливался. Диордица уже почти избавившийся от гвардии Елшина окружил себя своими лизоблюдами, и они на право и на лево распродавали все с чего можно было поживится. Даже служебные площади, которые мы в буквальном смысле слова своими руками строили. Я старался с головой уйти в работу в Мемориале. Там тогда под руководством Андрея Дмитриевича Сахарова совершались великие дела, а вот в нашем Городском Объединении жертв необоснованных репрессий работа не ладилась. Отпрыски таких больших деятелей партии Большевиков, как Косиор, Смилга, Антонов Овсеенко и многих других исторических личностей, который даже не помнят своих родителей, так как были слишком малы, когда тех расстреляли, выросшие в детдомах, почти все с травмированной психикой. Никакой организованности, с приступами неспровоцированной агрессии. Господи, задумывался я временами, что я-то здесь делаю? Это дети тех, которые сами беспощадно расстреливали, а потом были расстреляны своими же «товарищами». Появились какие–то сомнительные личности, которые почти с профессиональным мастерством выдавливали тех, кто эту организацию создавал. Времена наступили голодные. Из за рубежа стала поступать кое-какая гуманитарная помощь. Эти новенькие стали клеветать на тех, кто ни в чем не был виновен и сами рвались к руководству. Меня как более менее организованного и сравнительно молодого человека, с первых дней регистрации организации хотели избрать Председателем городского совета, но я настоял на том, чтобы остаться только рядовым челном и Слава Богу. В конце концов новенькие клеветой на невинных людей которые с таким трудом создавали эту организацию добились того что постепенно те стали сторониться грязи и сами дорвались и до руководства Городским советам и соответственно до той самой вожделенной гуманитарной помощи. Я понимал, что это были за люди и кто за ними стоял, и отработав там более четырех лет на очередной отсчетно выборной конференции взял самоотвод. И даже тут сработала «отрицательная селекция». Наглые субъекты с крепкими локтями добрались до руководства Объединением и свой цели достигли. Нас они «вымазывали» маргарином, которого мы не ели, а сами потом эту гуманитарную помощь распределяли между собой. Во всяком случаи я ее больше не видел и меня они своим маргарином запачкать уже не могли.
<...>