












Владимир Кизель: Кадры были сделаны мастерски: ни на одном снимке не было видно бараков зэков и сторожевых вышек»
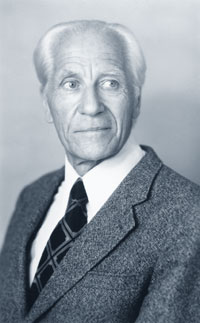 Я работал по оборонной тематике, имел бронь, но, отказавшись от нее, ушел в
армию. С начала войны я недолго был под Москвой, а потом служил в советском
экспедиционном корпусе в Иране. Неоднократно подавал заявления на фронт, однако
вместо фронта в 1943 году я поехал в ссылку в Норильск.
Я работал по оборонной тематике, имел бронь, но, отказавшись от нее, ушел в
армию. С начала войны я недолго был под Москвой, а потом служил в советском
экспедиционном корпусе в Иране. Неоднократно подавал заявления на фронт, однако
вместо фронта в 1943 году я поехал в ссылку в Норильск.
Был арестован мой отец Александр Робертович Кизель, известный у нас и за рубежом ученый-биохимик, шестидесяти трех лет. Он заведовал кафедрой в МГУ. В нашем доме после обыска конфисковали все немногие ценные вещи (их рассовали по карманам чекисты), а книги и рукописи отца увезли. По указу вождя компартии «член семьи, не участвовавший в преступлении и не знавший о нем, едет на 5 лет в ссылку». В 1955 году я получил бумажонку: «А.Р.Кизель был арестован без предъявления обвинения, без следствия и суда, состав преступления отсутствует, и он считается реабилитированным посмертно». (Было и свидетельство о его смерти в 1948 году, где в графе «место смерти» был прочерк.) Аналогичную бумажку позже получил и я, только без слова «посмертно».
Последнюю книгу отца, написанную с сотрудниками, ввиду ее ценности выпустили во втором издании в 1952 году, но его фамилия по требованию цензуры была из списка авторов вычеркнута.
Все это было потом, а пока меня продержали несколько дней в тюрьме — до комплектации этапной партии ссыльных и заключенных (дело шло быстро) и повезли в спецвагоне в Красноярск. В соседнем спецвагоне были женщины, высылаемые в какое-то другое место, иные были с детьми в пеленках. Мою маму из Москвы повезли в другое место, я только позже разыскал ее.
На каждой станции поезд останавливался, некоторых заключенных сдавали, а новых подсаживали: вся Сибирь была, по существу, одним огромным концлагерем. На одной из станций внесли тяжелобольного «старика» (57 лет). Он был из самого страшного штрафного лагеря «Искитим». Там колонна из 200 человек работала на каменоломне. Когда зэки построились по окончании работ, одного не хватило. Пока часть охраны искала его (заснул в расщелине), колонна в ожидании стояла 2 часа под холодным осенним ветром. И поэтому «старик» схватил воспаление легких.
 По дороге меня с большой партией продержали несколько месяцев на угольных
шахтах Кузбасса (Осинники). Сырые и холодные шахты заложили когда-то
заключенные, а теперь там работали раскулаченные. Сельхозинвентарь им взять не
разрешили, поэтому им оставалась только работа на шахте, где шла естественная
убыль и не хватало рабсилы. Я работал подручным забойщика и лесодоставщиком.
По дороге меня с большой партией продержали несколько месяцев на угольных
шахтах Кузбасса (Осинники). Сырые и холодные шахты заложили когда-то
заключенные, а теперь там работали раскулаченные. Сельхозинвентарь им взять не
разрешили, поэтому им оставалась только работа на шахте, где шла естественная
убыль и не хватало рабсилы. Я работал подручным забойщика и лесодоставщиком.
Потом нас направили в Красноярск. Здесь я получил направление в совхоз «Таежный» Норильского комбината МВД, который находился недалеко от Сухобузима, родины В.И.Сурикова, рядом с селом Атамановым, где Енисей вырывается из скалистой теснины. За ней, выше по течению, располагался поселок высланных сюда калмыков.
Комбинат был фактически властителем всего Красноярского края, потому что единственным в Союзе предприятием, дающим никель и кобальт, которые необходимы для варки качественной стали, и сопутствующие платиноиды. Природа снабдила Норильский район залежью каменного угля. Вдоль всего Енисея были разбросаны склады, верфи, причалы, рыбхозы, лесозаводы комбината. Совхоз снабжал его картофелем и овощами.
Было несколько вольнонаемных из окрестных сел, но основной рабсилой был, конечно, большой отряд заключенных. Я был как «инженер» направлен в трактороремонтную мастерскую. Я тогда в этом деле смыслил мало, но до сих пор вспоминаю зэков, особенно бывалого уркагана Швеца — кузнеца, который мог подковать блоху одной левой, Володю Панова — слесаря с задатками блестящего конструктора, Колю Трубецкого (отдаленного потомка Трубецких) и многих других людей, которые вели дело.
В совхозе работал пожилой возчик, он прибыл с первой партией раскулаченных в начале 30-х годов, работал на какой-то важной стройке комбината, а потом перебрался сюда, на работу полегче. Однажды в промозглую, слякотную, холодную ноябрьскую погоду он вернулся в самом конце рабочего дня, озябший. Мы с ним затеяли чай покрепче, почти чифирь, разговорились о его прежней работе.
— Вот, бывало, выдастся такая же холодная ночка, все по домам сидят, собаку на двор не выгонят, а меня в аккурат занарядят возить покойников. Наложат телегу — и везешь вот так, по грязи, коня надрываешь. Подъеду к большой яме, ее машиной нарыли. Я молодой был, сильный, телегу плечом поддам, свалю свой груз в яму-то и назад... К утру — на отдых. А машинами яму-то к утру засыпали...
Осенью весь персонал без разбора посылали на сбор и погрузку картошки на баржу. Однажды в совхоз прилетел на гидросамолете начальник комбината генерал-майор МВД Панюков. Он летел со свитой из Красноярска в Норильск, а по дороге заглядывал на предприятия. Случайно один из его свиты узнал, что я по специальности физик, доложил начальству, и Панюков сказал: «У нас этого профиля не хватает — беру его с собой». Собрав наскоро солдатский рюкзак, я удостоился чести лететь с самим начальником.
Свита вела обычный чиновничий разговор — кто в каком кресле, кто выскочил вперед, кто написал хитрую бумагу... В него невольно вплетались рассказы о пропавшем в тайге самолете, о взыгравшем Енисее, разметавшем караван барж у Игарки, о налетевшей нежданно пурге, о снежных завалах... По дороге Панюков продолжал заглядывать во все предприятия — на некоторых был четверть часа, а кое-где и подольше.
На каждом предприятии была маленькая гостиница для руководства с постоянным штатом и надлежащим запасом продуктов. Там, где остановки были длительнее, естественно, были угощения с выпивкой. Я кормился с обслугой. Сели в Туруханске — городе, где мостовые скрипят, как половицы, откуда шел когда-то тяжелый путь на Мангазею. Здесь меня вследствие предыдущего подпития даже посадили в дальнем конце общего стола. Когда было выпито порядочно, я вышел на балкончик, и передо мной открылся унылый пейзаж — две чахлые березки и тощий кустарник. Вышедший со мной один из чинов, хлопнув меня по плечу, сказал:
— Смотри, парень, смотри... Для нас это Крым, курорт...
Наконец прибыли в Норильск, Норильлаг.
В районе устья могучего Енисея, в 90 километрах от порта Дудинка, тянется гряда невысоких холмов, именуемых горами Путорана. У подножия их и стоит, подсвеченный огнями, Норильск. Обогатительный завод, ТЭЦ, еще заводские здания, дома, шахты и рудники — все построено в основном на костях заключенных; уже в мое время их работало 80-90 тысяч. Ближе к холмам стояли бараки зэков со сторожевыми вышками, а вокруг — тундра на сотни верст. Закладывались открытые разработки руды, где работа была потруднее.
Девятимесячная зима, когда день — сумерки на два часа и дальше ночь... Стояли устойчивые морозы — обычно не ниже сорока, редко пятидесяти градусов, а главное — часто внезапно налетала пурга с ветром метров 50 в секунду, она валила человека с ног и оставляла сугробы до второго этажа. Силой ветра заглаживало снег до каменной твердости, и после пурги приходилось выводить большие колонны заключенных для расчистки дорог. Было несколько случаев, когда человека катило ветром по затвердевшему снегу и он, не в силах встать, замерзал... А над холмами и заводами полярными ночами горели сказочные сполохи северного сияния.
В сказаниях о покорении Сибири об одном городе говорится: «Град зарубили на месте тундреном, студеном и безлесном». Это можно сказать и о Норильске. К северу от его границы тундра была в маленьких холмиках — это братские могилы заключенных. За долгую тяжелую полярную зиму численность рабсилы уменьшалась: гуляла вовсю цинга, легочные болезни, да мало ли чего еще... В навигацию в трюмах барж привозили из Красноярска новых зэков. Были среди них и фронтовики, с дырками в гимнастерках от сорванных орденов. Не все выдерживали долгое путешествие в трюмах; покойников не сбрасывали в Енисей: начальник эшелона должен был сдать в Дудинке столько же человекоединиц, сколько принял в Красноярске.
Примерно в этих местах расстреливали за провинности. Какого-нибудь неугодного из зэков можно было убрать, просто послав с каким-либо поручением, при этом разрешив словесно выход из зоны, после чего его просто расстреливали «при попытке к побегу». Сколько прошло через комбинат заключенных за все годы, сколько из них погибло — вряд ли известно об этом и сейчас.
По приезде меня направили в проектный отдел и поручили вести проектирование контрольно-измерительных установок (основное проектирование было закончено примерно в 1940 году). Чисто вольных в Норильске (не говоря о персонале МВД и о полке военизированной охраны) было сравнительно немного, в основном инженеры на руководящих постах, например начальник энергоснабжения, обогатительного завода. Были среди них те, кто проектировал и вел стройку, и те средние инженеры, направленные сюда или соблазнившиеся высокими заработками. Но основным контингентом инженеров средней руки все-таки были специалисты, отбывшие здесь срок и не имевшие права уехать из-за штампа в паспорте, который ставили при освобождении политическим. Многих просто не выпускали...
Некоторые руководители рассматривали людей просто как количество человекоединиц, но большинство выуживали из общей массы заключенных (по документам, данным агентурной сети) инженеров высокой квалификации, которых использовали в основном по специальности. Все было подчинено девизу «Давай никель!». Иногда их расконвоировали, некоторым даже поручали ответственные участки производства (например, зам. главного инженера по энергоснабжению Гордиенко, у энергетиков — Александров и Грамп, руководителем одного из рудников был Ерусалимский), а ведь у всех были «плохие» статьи.
Постепенно увеличилось количество квалифицированных рабочих, преимущественно освободившихся и оставшихся в Норильске. Стало больше и вольнонаемных, но в основном все держалось, конечно, на заключенных, а уж землекопы, грузчики, уборщики заносов были только зэками.
Однажды я листал красивый альбом «Как комсомол строил Норильск» с фотографиями нескольких руководящих товарищей и видами Норильска. Кадры были сделаны мастерски: ни на одном снимке не было видно бараков зэков и сторожевых вышек. Слово «заключенный» в этом альбоме отсутствовало.

Материально ссыльные были равны с вольными, можно было посещать кино в ДИТРе — Доме инженерно-технических работников. Однако ссыльные и отбывшие срок были «низшей расой», и это чувствовалось. Начальство держалось своей группой. Общение с зэками помимо служебных дел строго запрещалось. Это правило, естественно, часто нарушалось на работе, если отряд не шел под конвоем.
Но кто бы ты ни был, над всеми незримо витал призрак МВД. Ты не мог быть уверен в том, что твой сосед или собеседник не стукач. Иных и подозревали в этом, о некоторых знали точно. Поэтому всегда обычные бытовые разговоры были стесненными, с оглядкой, кругом царила атмосфера страха и недоверия. («Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек»).
Один раз меня две недели продержали в тюрьме, потом выпустили, и я вернулся на прежнее место. Тогда мне назидательно сказали: «Не болтай, парень».
Свобода передвижения ссыльных была полной. Да и куда бежать? К северу — Ледовитый океан, к западу и востоку — тысячи километров безлюдной тайги, а по Енисею... Все население знало, что за сообщение о бежавшем хорошо платят бонами торгсина. В обслуживавшей нас бригаде был один зэк, сумевший убежать до района Игарки, но он не догадался зарезать девушку, указавшую ему таежную тропку. Его отловили, «мал-мало помяли» (но не искалечили — рабсила нужна) и вернули, добавив большой срок.
Помню и другой случай: заключенный отказался от воли. Когда ему объявили об освобождении, он упал в ноги чекисту, умоляя оставить в лагере. Это был пожилой банщик, работал и жил в бане. Родных у него не осталось, ехать было некуда, а тут какой-никакой теплый угол и пайка, которая не давала умереть с голоду. Другого выхода, чтобы выжить, у него не было.
Слово «товарищ» тогда было малоупотребительно. Начальство называли чаще по имени и отчеству, а хорошего знакомого — только по имени. Зэк, неосторожно употребивший в отряде это слово, получал ответ: «Волк в лесу тебе товарищ» (вопреки официальному: «Наше слово гордое «товарищ» нам дороже всех красивых слов»).
Потом меня перевели в центральную энерголабораторию. Здесь весь крупный персонал был из заключенных — опытный электротехник Бобрович, знающий теплотехник Кениг, младший сотрудник Белостоцкий, механик Габриэлян, чинивший часы большинству из руководства.
В «Таежный» мне довелось вернуться в 1947 году уже по делам на десять дней. Забавный эпизод. Выдалось свободное время, и я гулял по лесу. Услышав громкое пение, я пошел посмотреть. По большой поляне шли женщины-зэки, которые собирали ягоды с песней «чтоб барской ягоды тайком уста лукавые не ели» (А.С.Пушкин). Звонкое меццо запевало соло: «Эх, нача-а-а-а-льничку...», а мощный хор подхватывал: «...надо дать, надо дать...» Потом пропитое контральто продолжало: «Эх, тудыт твою мать, надо дать...» Далее следовало перечисление лагерного начальства по нисходящей.
Мой срок истекал в 1948 году. Мне удалось уехать в конце 1950 года. Отпуска уже разрешались, но вернуться в Москву я смог только в 1955 году, когда очистил землю человек, родившийся в самый темный день года.
Однако вернемся к Норильску. Чекисты селили в бараках вперемешку с высококультурными «политиками» и матерых, профессиональных урок в законе. Зона становилась маленьким суверенным государством, где устанавливались свои блатные законы, которые надо было соблюдать под страхом строгого наказания. Здесь были свои «аристократы», «паханы», был даже «конституционный суд» в лице пожилого «пахана», прожившего почти всю жизнь в зоне.
Политиков ненужной специальности использовали на общих работах вместе с уголовниками. Всегда в бараке была маленькая группа урок в законе — эти господствовали в бараках и считали позором работу, получали поэтому малый паек и обирали работавших. Уклонение от работы было своеобразным: одна из матерых пришила себе к животу несколько пуговиц. Обнаруженный или почти достоверно выявленный стукач был обречен.
Однажды разыгралась кровавая драма. Урки, жившие в одном бараке, решили в одну из ночей проучить сук в соседнем. Случилось по нелепости так, что лагерное начальство, не знавшее о сговоре (стукачи подвели!), в день перед этим перевело сук в другой барак, а сюда поселило только что прибывшую партию зэков — работоспособных инвалидов войны. Не знавшие это урки устроили ночью кровавую бойню, которую с трудом утихомирили поднятые по тревоге охранники.
Хуже всего жилось бывшим профессиональным партийным и комсомольским работникам: их словно в насмешку посылали на самые тяжелые и грязные работы. Среди политических были те, кто вел на воле антисоветские речи, колхозницы, собиравшие колоски, оставшиеся после жатвы; раненые солдаты, без сознания подобранные немцами, которые считались изменниками Родины без разбора («Входили без страха в чужие столицы, но возвращались со страхом в свою». — И.Бродский). Один жилец коммунальной квартиры пострадал за то, что его трехлетний сынишка изорвал и испачкал газету, в которой был большой портрет Сталина. Многие попали за одно неосторожное слово.
Высококвалифицированные специалисты и рабочие нужных профилей еще кое-как выживали, а на общих работах выжить было труднее. Национальный состав заключенных был разнообразен: славянское представительство народов от Польши до Сибири, жители Прибалтики, грузчик из Ленинграда — финн Кайбияйнен, сказавший что-то «не то» о нападении 1940 года. Попал в ссылку Мишка Еркин, мать которого в аккурат за две недели до войны вышла замуж за немца.
В изъятых у меня документах была книжка мастера спорта, посему мне было поручено в порядке общественной нагрузки обучать и тренировать группу сотрудников на горных лыжах. В нее вошли пара вольных, а в основном приходили специалисты и инженеры, отбывшие здесь срок и не имевшие разрешения уехать домой; бывал геолог Урванцев, обследовавший это месторождение и потом отбывший здесь 10 лет.
В середине зимы ходить на лыжах рискованно: темно и опасно из-за часто и внезапно налетающей жестокой пурги, но в дни короткого лета можно было и в 12 часов ночи ходить под солнышком.
Занятия пригодились. Где-то в марте подняли всех ходивших на лыжах: самолет комбината, пролетевший над Игаркой (10 минут лета до Норильска), пропал. Три дня мы колесили по тундре, поднимались на холмы для обзора, на четвертый день получили приказ вернуться: летчик Веребрюсов сел где-то в селении-становище и пьянствовал с летевшими с ним ответработниками комбината, напоив заодно всех туземцев в округе.
Однажды меня послали зимой в Красноярск получать приборы. Летели на маленьком самолете Р-5 (немцы звали его «русфанер») двое — я и зам. начальника комбината по снабжению, так что я был под присмотром.
Ночевали в Подкаменной Тунгуске. Зимний день короток, скорость невелика, а аэродромы не освещались. Так летели и обратно, но позже выяснилось, что прозевали запастись горючим — его хватит только до Туруханска, где и пришлось сесть вечером. Здесь неожиданно к нам кинулся весь персонал. Нас мгновенно заправили, подправили все, что надо, и дали вылет. Летчик бормотал насчет прогноза погоды, согласия Игарки на прием, но нас срочно отправили. Объяснение этому простое: было 31 декабря, и кому охота после встречи Нового года возиться с самолетом с утра.
В Игарке мы садились уже в полной темноте — летчик едва не промазал летную полосу. Встречали Новый год в гостинице для начальства. Начальник был демократичен и имел вдобавок жбанчик со спиртом. Наутро мы вышли на аэродром, но никого из обслуги найти не удалось (моряки говорят: «Если хочешь спать в уюте — спи всегда в чужой каюте»).
Втроем запустить мотор не удалось. Надо было прокрутить канатом замерзший винт и крутить магнето (стартер не работал!). Пришлось идти в гостиницу доедать и допивать. На второй день опять никого не нашли, только встретили сторожа, который дал нам тощую клячу, но и теперь из-за «технической неподготовленности» клячи и отсутствия у нее энтузиазма ничего не вышло. Только на третий день обслуга оправилась от встречи Нового года, и мы вылетели в Норильск.
Зима была долга и сурова, но весной (середина июня) можно было выйти километров на пять-шесть в тундру. Она буйно цвела, торопясь наверстать время за короткое лето. Здесь мы старались забыть ненадолго о бараках и вышках.
Лагерь познакомил меня со знаменитым футболистом Андреем Петровичем Старостиным, расконвоированным зэком. Его заслал сюда лучший друг физкультурников. Тогда говорили — не знаю, верно ли это, но звучало правдоподобно, — что братьев Старостиных заслал Берия, болельщик «Динамо», дабы лишить конкурента — «Спартака» — лучших игроков. Старостину было поручено руководство спортом на комбинате. Фактически он был и тренером в спортзале. Умный и остроумный, многое почерпнувший в годы своей славы от окружавших его болельщиков — актеров уровня Яншина и писателей типа Олеши, Андрей Петрович много читал, был интереснейшим рассказчиком.
Запомнились встречи с расконвоированным художником Мангольдсом — латышом, окончившим Академию художеств в Риге и Париже. Он как-то получил краски и бумагу и нарисовал великолепные акварели: виды Норильска, какие-то тропические леса. Их у него покупали за продукты многие, даже высокопоставленные лица, через них он и получал краски. За талант рисования его и расконвоировали (он был уже старый). У меня сохранилось несколько его рисунков, два лучших я послал А.И.Солженицыну.
В Норильске я встретил также и знакомого еще по Москве молодого альпиниста А.Полякова — сына одного из деятелей революции, погибшего в первые ее годы и взятого под опеку Н.В.Крыленко. Он участвовал в Памирских экспедициях Крыленко и получил после осуждения Крыленко (за близость с ним) 10 лет. Познакомился я и с отбывшим срок остроумнейшим корреспондентом «Известий» Гарри, который вскоре сумел уехать.
Упомяну еще и Володю Буре — чемпиона СССР по плаванию, — также жившего в Норильске по воле вождя, покровителя физкультурников.
Однажды мне пришлось пройти в угольную шахту для проверки измерительных приборов. На входе в шахту дежурила женщина, как и все, закутанная в пропитанное угольной пылью тряпье. На черном от пыли лице были видны лишь глаза и зубы. Разговорились. Она оказалась немкой Поволжья, и разговор пошел по-немецки:
— Я родилась в Америке.
— ?
— Отец — немец Поволжья, довольно зажиточный, был ярым демократом и режим царского правительства его не устраивал — он эмигрировал в Америку. Там я и родилась. Когда здесь наступили свобода, равенство и братство, он решил вернуться: землю сохранили соседи. Его быстренько раскулачили и выслали в Красноярский край, где он и умер. С началом войны меня, немку, выслали сюда. Работа ссыльной на шахте по крайней мере позволяла жить.
У другой моей знакомой, Веры Ивановны Семеновой, была наружность кавказской женщины. Казалось, она типичная азербайджанка из Баку. Но ее история была сложнее.
В 1916 году русские войска вошли на территорию Турции. Одна рота после артподготовки ворвалась в маленькую деревушку с криками «тудыт твою...» (что по турецкому военному словарю означало «за веру, царя и отечество»). Из нее давно убежали все.
Русский солдат Иван Семенов увидел в углу разбитой мазанки забившийся в паническом страхе черный комочек — девочку лет пяти. Девочка с ужасом смотрела на большое, с ржаными волосами и голубыми глазами (Семенов был из Рязани) существо. Солдат любил детей — хоть и басурманское, а ведь все же дите! Его руки оказались добрыми, он пристроил девочку к куму в обоз. Солдаты жалели девочку (поговорить с ней никто не мог), совали ей кто сухарик, кто кусочек сахару.
Грянула революция, фронт развалился. Иван вернулся в родную Рязань. Деревня не радовалась басурманке, негодовал поп, но, распив в ним четверть, Иван поладил, окрестили ее Верой в честь матери.
Девочка подросла, выучила язык, окончила школу и даже институт. «Отец» умер, она вышла замуж за инженера, родила ребенка. В 1937 году муж оказался «врагом народа», она как турецкая шпионка получила 10 лет, ребенка под другой фамилией отправили в какой-то детдом. Когда я познакомился с ней, она уже освободилась. Надо было ехать, но куда? В Турцию? В деревню, где нет никого близкого? А здесь все же зарплата и паек...
В суровом Норильске есть один радостный день — 8 февраля: около полудня в створе холмов на десять минут впервые проглядывает крошечный кусочек солнца. Все, кто может, бросают работу и бегут его встречать. Окна комнаты Веры выходили на юг. Она, грустная, стояла около окна...
О чем думала Вера, Суфия, Зульфия, Шаганэ?.. Сколько покалеченных жизней связано с Норильском...
На оглавление "О времени, о Норильске, о себе..."