












Григорий Климович: «8 июля следственные органы приступили к фабрикации уголовного дела об антисоветском заговоре в Горлаге»
Мне об этом никто не рассказывал.
Это видел в тюрьме я сам.
Заключенный начальника спрашивал:
«Где же правда? Что сделал вам?»
Это быль, а не сказка старинная.
Я свидетелем был всего.
Вот за эти слова безвинные
Десять ног топтали его.
А потом, выражаясь матерно,
Отводя свою душу всласть,
Вот за это избитого в карцере
Двадцать суток морозила власть.
Но когда на прогулке, измученный,
После карцера чуть живой,
Он увидел в бетонной излучине
Одинокий цветок лесной,
Улыбнулся. И, бережно ватником
Пыль смахнув с молодых листков,
Он сказал, обращаясь к привратнику:
«Правда в тех, кто не терпит оков.
Правда в жизни, пускай еще слабенькой...»
И я видел в окно тюрьмы,
Как смеялся цветочек аленький
Над зловещею властью тьмы.
Г.Климович, 1949 г.
 Как-то в самый разгар проводимых МГБ арестов врачей и травли евреев я встретился
со своим старым знакомым Яковом Хайкиным — тем самым бывшим подполковником
Хайкиным, который когда-то сразу по прибытии в Горлаг вместе со мной работал
культоргом КВЧ, и поинтересовался у него, что он думает по поводу этой новой
репрессивной акции. Хайкин дружески похлопал меня по плечу и, слегка подавшись
ко мне, прошептал: «Скоро эти репрессии кончатся. Не сегодня завтра Сталин
сыграет в ящик».
Как-то в самый разгар проводимых МГБ арестов врачей и травли евреев я встретился
со своим старым знакомым Яковом Хайкиным — тем самым бывшим подполковником
Хайкиным, который когда-то сразу по прибытии в Горлаг вместе со мной работал
культоргом КВЧ, и поинтересовался у него, что он думает по поводу этой новой
репрессивной акции. Хайкин дружески похлопал меня по плечу и, слегка подавшись
ко мне, прошептал: «Скоро эти репрессии кончатся. Не сегодня завтра Сталин
сыграет в ящик».
— Ой ли?! — воскликнул я, не доверяя его ответу.
— Вот попомнишь мое слово...
А через три дня после этой встречи ранним утром, когда работяги в тревожном ожидании сигнала «Выходить на развод», по-зимнему одетые, в бушлатах и валенках, лежали на нарах, он вбежал в барак и, возмутившись царившим в нем спокойствием, закричал:
— Что же вы лежите?! Он умер... Слышите?! Он умер.
И все мы вмиг, словно услышав известие о всеобщей амнистии, вскочили с нар и, не веря своим ушам, уставились на Хайкина. Яков Лазаревич стоял у открытой двери и, когда я встретился с ним взглядом, пояснил:
— Только что МГБ получило радиограмму. — И тут же, вновь отыскав глазами меня, задорно вскинул голову и добавил: — Вот как ему врачей сажать!
Новость эта ошеломила нас. Потрясенные ею, мы с минуту молчали, а потом вдруг все сразу заговорили и, не дожидаясь резавшей слух команды нарядчика «Развод! Выходи строиться!», тотчас гурьбой повалили на выход. Одновременно с нами выходили люди и из других бараков и так же, как и мы, шумно разговаривая, спешили к проходной вахте на разводную линейку, рассчитывая услышать от присутствующих на разводе надзирателей подтверждение этой новости. Но у проходной, когда мы подошли к ней, было пусто — не видно было даже дежуривших вахтеров. Это обстоятельство насторожило нас. И громкий гул, стоявший над толпами заключенных, из конца в конец заполнивших линейку, несколько поутих. Люди сами по себе без всякой на то команды стали говорить вполголоса. А когда прибыл конвой численностью почти вдвое больше обычного и из дверей проходной вышла группа офицеров, мы дружно повернулись лицом к воротам и над нашей длинной колонной повисла глухая, тревожная тишина. Мы замерли, в глубине души опасаясь, как бы соратники умершего вождя не вздумали справить по нему такую же кровавую тризну, какую некогда справили по своему кумиру сторонники римского диктатора Суллы, уничтожив по заранее приготовленным проскрипциям всех неугодных и подозрительных. Сталин, как и Сулла, был страшен даже после смерти. Он был страшен не только нам, но и эмгэбистам. Они тоже боялись, как бы не перегнуть палку. И в первый день его смерти опасались даже официально выразить свое отношение к случившемуся и объявить об этом людям. Весь день 6 марта 1953 года в Норильске царила какая-то бередящая душу растерянность. Никто не знал, как ему быть: то ли плакать, то ли смеяться. И только поздно вечером, видимо после получения соответствующей инструкции, наконец-то осмелились вывесить приспущенные флаги с привязанными к ним черными лентами. А назавтра к столбу, стоявшему у запретной зоны лагеря, прикрепили громкоговоритель и предоставили нам возможность слушать трансляцию из Колонного зала Дома союзов, где стоял гроб с телом покойного. Звучали грустные мелодии грузинских колыбельных песен, менялся почетный караул, возлагались венки, мимо гроба проходили трудящиеся, и многие навзрыд плакали. Плакали и в Норильске. И даже в лагере находились простачки, которые, внимая лившейся из громкоговорителя печали, не могли сдержать слез. Видя эту неподдельную скорбь, невольно вспоминались стихи Некрасова:
Мир любит блеск, гремушки и литавры.
Удел толпы — не узнавать друзей,
Она несет хвалу, венцы и лавры
Лишь тем, чей бич хлестал ее больней
Наверное, такова сила еще не изжитой в людях рабской привычки. И мы, отдавая должное этой силе, не осуждали людей за их душевную слабость и не возмущались, видя, как они у гроба жестокого бога убивались в горе, рвали на себе волосы и, подобно древним киевлянам, взывавшим к брошенному в Днепр Перуну: «Выдыбай, Боже», взывали, в отчаянии протягивая руки к гробу Сталина. Но не выплыл из Днепра Перун, и не мог встать из гроба Сталин. И все мы — и те, кто плакал, и те, кто не плакал, — когда наступил час похорон, высыпали из бараков в зону и стояли на ветру и морозе, слушая репортаж с Красной площади. Сталина поместили в Мавзолей В.И.Ленина. На траурном митинге выступали Маленков, Молотов, Берия. Они клялись продолжать его дело, заявляли, что внешняя и внутренняя политика останется без изменений. Но ни один из них не объяснил, что именно он намерен продолжать и что конкретно будет оставаться неизмененным. Они говорили ничего не значащими общими фразами, не излагая никакой своей политической и социально-экономической программы. Или в силу ограниченности своих воззрений они ее не имели, или в силу каких-либо обстоятельств, связанных с борьбой за портфель вождя, не решались иметь. Даже Берия, будучи единственным из всех наследников вождя, который в данный момент обладал реальной силой и властью, и тот не выступал с открытым забралом; ему, к нашему удовольствию, что-то мешало говорить твердо и прямо. Было очевидно, что ни один из них не осознавал себя достаточно правомочным стать новым вождем. А поскольку два медведя в одной берлоге не уживаются, такая очевидность позволяла нам с оптимизмом смотреть в будущее, надеяться на скорые перемены к лучшему в Московском Кремле и соответственно в нашей судьбе. И едва закончилась трансляция похорон, как кто-то подал Кауфману аккордеон, и мажорный аккорд неожиданно разорвал было царившую тишину. Вперед вышел Михо Киладзе, он энергично взмахнул руками и, на носках пройдясь перед Кауфманом, принялся лихо отплясывать лезгинку. Лагерники невольно подались ближе к Киладзе и Кауфману и, окружив их плотным кольцом, стали в такт движениям Михо ударять в ладони, одобрительно выкрикивая: «Асса!», «Молодца!». Быстро стуча ногами и артистически выбрасывая руки, Михо как вихрь носился по кругу — и было в нем столько живости и молодого задора, что, глядя на него, как он пляшет, казалось, что это пляшет очень счастливый человек. И многие из окружавших, заряжаясь его веселым молодечеством, тут же пускались в пляс и сами. Круг постепенно ширился, оживление нарастало, и вскоре не было здесь ни угрюмых лиц, ни безучастных. Все мы вдруг почувствовали себя как-то легко и непринужденно, будто отодвинулась в сторону какая-то тяжелая глыба, что постоянно довлела над нами, угнетая и душу, и ум, и тело. И это наше новое самочувствие преобразило наши восприятия действительности, отчего и мороз вроде бы стал меньше, и день светлее, и жизнь показалась нам не такой уж мрачной, какой мы привыкли видеть ее. А на самом деле это был всего лишь мираж, порожденный жаждой жизни. Сущность действительности пока оставалась прежней, о чем тут же и напомнил нам часовой, стоявший на ближней от нас вышке.
— Прекратите! Или стрелять буду! — крикнул он, возмущенный нашим весельем. Оно, никак, показалось ему кощунством, оно оскорбляло его лучшие чувства, испытываемые им в связи с похоронами Сталина, которого он почитал более отца и матери.
Щелкнул затвор. И тотчас, протяжно простонав, замолк аккордеон. Мираж исчез. Все мы повернулись к часовому. Он не пугал нас. Он предупреждал всерьез. Мы это поняли, как только увидели его заплаканное, искаженное злобой лицо. Фанатик с таким лицом мог решиться на любое безумие. Его как-то нужно было остановить. А как? Ответа никто не знал. И мы замерли, когда вперед вышел Володя Трофимов — в прошлом студент Челябинского политехнического института.
— Что случилось, солдат? — спросил он часового.
— И ты спрашиваешь?.. — выкрикнул часовой. — Ты ничего не видишь?.. Не видишь, что весь народ, все люди земли плачут. У всех горе. А вы... Или вы взаправду враги народа? В такой день... Плясать... Как же это можно?!
— Погоди возмущаться! — прервал его Володя. — Мы совсем не такие, как ты о нас думаешь. Мы такие же, как и ты, только горе у нас с тобой разное. Недавно здесь в лагере умерли два старых большевика — люди, которые вместе с Лениным в царских тюрьмах сидели, революцию делали, советскую власть создавали. Прощаясь с ними, мы плакали, и ты видел это. Но ты не плакал. Почему ты не плакал? Разве то горе было меньшим? Когда-нибудь, солдат, ты поймешь это. Время все высветит. А сегодня не обижайся на нас. Мы не враги тебе.
— Ладно, — примирительно буркнул часовой. — Поживем — увидим, а пока приказываю разойтись или... — И он угрожающе повел автоматом. Но теперь этот его жест не пугал нас, мы отнеслись к нему равнодушно, как к какой-нибудь присущей краснопогонникам формальности. Однако излишне искушать судьбу не стали, предпочли за лучшее послушаться приказа часового — уйти от греха подальше. Веселиться было еще рано — наследие Сталина по-прежнему довлело над всем живым, и нужно было ждать, когда время обнажит в нем темные пятна, увидев которые люди ужаснутся и станут отворачиваться от него, как от чего-то противного их человеческой природе. А что такое время наступит, мы не сомневались и, перенося все тяготы лагерной жизни, ждали его, ждали с нетерпением, беспокойно, чутко прислушиваясь ко всякой мало-мальской новости, которая доносилась до нашей «огражденной от всех полосы». И, ожидая, сложа руки не сидели — готовились быть в помощь всему свободолюбивому, что осмелится выступить против жестокого режима и творимого в стране беззакония.
В бараках происходили бурные дискуссии, люди пытались понять, что их ждет впереди и как им надлежит вести себя в предстоящем противоборстве со сталинистами. Суждениям и толкам не было числа — благо в очищенных от подонков и стукачей зонах появилась возможность говорить все, что думаешь. А говорить было о чем: неясных вопросов было более, чем у Фомы слив; все для нас было покрыто мраком, и, блуждая в нем, мы искали хоть сколько-нибудь удобный путь, ведущий к свету. Тон в этих поисках задавали украинцы — самая многочисленная и наиболее организованная национальная группа в Горлаге.

Павлишин Лука с семьей. Снимок 1957 г., Воркута
Большинство украинцев были уроженцами западных областей и сидели за участие в националистическом движении, как это было записано в их формулярах, — определено де-юре. А де-факто все они сидели по подозрению за предполагаемое участие, а точнее, за то, что проживали в районах, подверженных националистическому влиянию. Оуновцев в Горлаге, как и вообще в лагерях, было немного — считанные единицы, которые по разным причинам не смогли уйти с генералом Капустинским на Запад и были схвачены МГБ. Но эти немногие оуновцы, оказавшиеся в лагерях, в Горлаге, — это профессор Лука Павлишин, краевые проводники Герман Степанюк, Михаил Морушко, а также Евгений Горошко, Василий Николишин, Василь Корбут, Иван Столяр, Евгений Грицяк и другие, — стали притягательной силой не только для украинцев, но и для всех лагерников, которые болезненно воспринимали разницу между тем, что они собой представляли, и тем, во что их превратили. В условиях жестокого произвола, выдаваемого за социалистическую законность, эти люди видели в них своих защитников и тянулись к ним, солидаризируясь с ними и поддерживая их. К ним с уважением относились даже русские, не желавшие слышать об украинском национализме, и даже созданная Смирновым партия прогрессистов-ленинцев; Иван Воробьёв и Шебалков — в прошлом оба Герои Советского Союза; Иван Кузнецов и Павел Фильнев — в прошлом оба полковники Советской Армии, а также Владимир Русинов — до ареста учитель, уроженец пос.Чайковский Пермской обл.; Валентин Чистяков — инженер, кандидат в мастера по шахматам, уроженец г.Воронежа; Иван Стригин — в прошлом офицер, уроженец г.Инза Ульяновской обл.; Леонид Быковский — студент Воронежского политехнического института; Владимир Трофимов и другие. Все они были с оуновцами в дружбе, делились с ними и сокровенной мыслью, и последней пайкой хлеба. И это было логично, поскольку в тот конкретный момент у всех нас был один конкретный враг — бериевское МГБ, а по отношению к нему все мы, независимо от идеологических воззрений, были едины и все одинаково опасались, как бы этот враг не узурпировал власть и не довелось бы нам узнать еще более черные дни, чем те, какие мы знали до этого. И хотя нам было известно, что пуганая ворона и куста боится, но мы не куста боялись. Видя, как бериевцы после смерти вскормившего их отца день ото дня все наглели, не зная над собой никакой иной власти, кроме собственной, мы душой чуяли их устремления, и по этому поводу двух мнений не было. Радостное возбуждение, которое охватило нас в первые дни после смерти Сталина, сменилось тревогой. Нас ожидали не свобода и даже не облегчение нашей участи, а новое тяжелое испытание. С каждым днем МГБ все туже зажимало гайки; оно, никак, в обеспечение торжества своей власти решило ужесточить режим.
В лагере снова получило статус законности кулачное право. От нас добивались рабского повиновения начальству. Всякое возражение надзирателями рассматривалось чуть ли не как бунт против советской власти, и возражающего избивали с не меньшей жестокостью, чем это когда-то делали суки Цемстроя. Положение наше стало такое, что хоть лазаря пой. Однако никаких контрмер мы пока не предпринимали. Сдерживая свои эмоции, мы до поры молчали, считая, что МГБ и Берия опасны не только нам, но всем гражданам Союза, даже наследникам Сталина, и ждали, когда те, устав терпеть их власть над собой, скажут свое слово. И в этих своих расчетах не ошиблись.
4 апреля 1953 года газета «Правда», извещая весь Союз, опубликовала Указ Президиума Верховного Совета СССР о прекращении из-за отсутствия обвинения возбужденного против врачей уголовного дела и об отмене Указа от 27 января 1953 года о награждении орденом Ленина врача Тимошук, по доносу которой было возбуждено это дело. Снова в наших душах забрезжила надежда, что скоро разберутся и с нами, так же как и с врачами. Однако на фоне того произвола, что творили в лагере местные власти, надежда эта выглядела весьма призрачной, и опытные лагерники не тешили себя ею.
Как-то вечером ко мне в барак зашел мой земляк Иван Наумович, работавший здесь начальником стройучастка, и в доверительной беседе сообщил мне, что генерал Семенов и полковник Желваков зачем-то уехали в Москву.
— Думаю, не за амнистией для нас, — заметил Наумович.
Несколько позже об этом предупредил меня и Донич — он тоже был того же мнения, что от поездки в Москву наших начальников ничего хорошего ждать не следует. Старые лагерники интуитивно чувствовали надвигавшуюся беду. Интуиция их не подвела. По возвращении из Москвы Семенов лишил нас книг, газет, коммерческой столовой, запретил группами передвигаться по зоне. И снова с отбоя до подъема нас начали запирать в бараках, а конвой получил разрешение при малейшем неисполнении его указания применять в отношении нас оружие. По сути дела, Семенов санкционировал необузданный произвол, и конвоиры не стали с нами церемониться.
Первые выстрелы прозвучали на Медвежке, в 1-м отделении. Жертвами этих выстрелов стали два наших товарища. Их застрелил солдат-сверхсрочник при выходе на работу. В МГБ этот поступок солдата был одобрен, и за образцовое несение службы ему был предоставлен месячный отпуск.
Следующим, кого поощрили таким отпуском, был начальник караула женского отделения. Самодовольно улыбаясь, он в упор застрелил бригадира 4-го отделения Алексея Болтушкина, когда тот обратился к нему с просьбой разрешить поговорить с женой.
Не удержался от соблазна получить возможность погостить дома у мамы и часовой, стоявший на вышке в оцеплении Горстроя. В самый канун 1 Мая — пролетарского праздника — он застрелил работягу, ремонтировавшего леса на участке прораба Семена Бомштейна. Сразу после праздника часовой получил желанную возможность. Он выглядел счастливчиком. Ему завидовали его друзья — солдаты охранного дивизиона, и эта их подлая зависть во много раз увеличивала опасность, угрожавшую нашим жизням. И хотя мы стали остерегаться конвоиров, как могли старались не раздражать их, не бросаться им в глаза, при случае обходить стороной — ничего не помогало. Их желание получить отпуск превосходило наши старания.
Где-то примерно через неделю после выстрела на Горстрое начальник конвоя, сопровождавшего колонну заключенных, возвращавшихся с работы в 4-е отделение, остановил эту колонну и, действуя по своему усмотрению, выдернул из строя трех человек, в числе которых был старый лагерник Дмитрий Лебедев, и тут же, на виду у всех, короткой очередью из автомата уложил их на покрытую снегом землю, а потом, пнув носком сапога каждого из них и убедившись, что сработал на совесть, подал команду: «Вперед! Шагом — марш!» Понурив головы, люди послушно тронулись с места и медленно, цепляя ногу за ногу, потянулись в лагерь.
— Быстрей! Шире шаг! Подтянись! — подгоняя, кричали конвоиры.
Но люди продолжали идти, как шли. У них не было страха, у каждого душа была
«гневна, грозна и надо бы громом греметь оттудова, кровавым лить дождям»,
однако, будучи со всех сторон окруженными автоматчиками, они молчали. И грозно
было это наше молчание. Оно таило в себе бурю, но бериевцы, уверенные в своей
силе и власти, считаться с этим не хотели и продолжали творить свое черное дело.
Очередными жертвами кровавого шабаша стали семь заключенных 3-го отделения. Их застрелили во время развода при выходе из зоны; застрелил солдат из спецвзвода, недавно прибывшего в Норильск по личному указанию Гоглидзе.
И снова кровь товарищей обагрила заснеженную тундру; снова негодование обожгло душу. Но и на этот раз мы стерпели. <...> Все мы кипели негодованием, все были возбуждены сверх всякой меры — малейшая искра могла вызвать пожар. Эмгэбисты знали об этом. Однако, страдая чрезмерной самоуверенностью, выводов не сделали и вскоре такую искру высекли.
 Это случилось 25 мая 1953 года, в шесть часов вечера. Я в числе лагерников,
работавших во вторую смену, находился в оцеплении Горстроя, расположенного в
полкилометре от 5-го отделения и вплотную примыкавшего к центральной улице
Норильска, на которой помещались Управление МГБ и ДИТР (Дом ИТР). Было начало
рабочего дня. Бригады, только что получив инструмент, разбрелись по объектам и
приступили к работе. Задвигались краны, закрутились бетономешалки, загрохотали
отбойные молотки. Мы строили город, и, как уверяло нас начальство, строили для
себя. Я этот город ненавидел и потому участвовал в его строительстве не сошкой,
а ложкой. И в этот день я не последовал за бригадой на объект, а зашел в
электромастерскую. Мне хотелось увидеться со своим земляком — Николаем Лисом.
Однако в мастерской Николая не было, работяг тоже. <...>
Это случилось 25 мая 1953 года, в шесть часов вечера. Я в числе лагерников,
работавших во вторую смену, находился в оцеплении Горстроя, расположенного в
полкилометре от 5-го отделения и вплотную примыкавшего к центральной улице
Норильска, на которой помещались Управление МГБ и ДИТР (Дом ИТР). Было начало
рабочего дня. Бригады, только что получив инструмент, разбрелись по объектам и
приступили к работе. Задвигались краны, закрутились бетономешалки, загрохотали
отбойные молотки. Мы строили город, и, как уверяло нас начальство, строили для
себя. Я этот город ненавидел и потому участвовал в его строительстве не сошкой,
а ложкой. И в этот день я не последовал за бригадой на объект, а зашел в
электромастерскую. Мне хотелось увидеться со своим земляком — Николаем Лисом.
Однако в мастерской Николая не было, работяг тоже. <...>
Удрученный воспоминаниями, я поднялся и, чтобы как-то отвлечься от горьких дум, взялся было отпиливать втулку от зажатого в тиски куска трубы, как дверь шумно распахнулась и в мастерскую стремглав вбежали Тарас Супрунюк — тот самый карагандинец, который при знакомстве со мной в первой камере тюрьмы угощал чаем, и Толик Гусев — молодой парень, содержавшийся в Горлаге как член семьи «врага народа».
— Да что же это творится? — прямо с порога закричал Толик. — До каких пор терпеть? Чего ждем?! Мусора лютуют, а мы?!
И, увидев, что я не понимаю, чем они возбуждены, тут же, горячо перебивая друг друга, сообщили, что несколько минут назад в 5-м отделении, прямо в зоне, застрелили четырех человек. Люди сидели на завалинке барака, греясь на солнце и мирно беседуя, и никто из сидевших даже ахнуть не успел, когда начальник конвоя дал по ним автоматную очередь. Наверное, этот начальник тоже рассчитывал получить отпуск и погостить у мамы. Но не все коту масленица. На этот раз расчет не оправдался. Это возмутительное злодейство подняло на ноги всех лагерников 5-го отделения и явилось той искрой, из которой потом возгорелось пламя. Оно переполнило чашу нашего терпения, вывело людей из равновесия, и они, обуянные яростью, выбежали из бараков, столпились в зоне. Протестуя против оголтелого произвола, лагерники подняли такой отчаянный крик, что, услышав его, только камень мог не содрогнуться.
— Що будэмо робить? — сверля меня глазами, спрашивал Тарас. — Там, — он кивнул в сторону 5-го отделения, — люды кричать. Боны просять допомоги. Це наши браття!
И, увидев, что меня бросило в жар, и поняв, что мне не до ответа, он выхватил из-за пояса финку и, выкрикнув: «Будь что будэ!» — тотчас вместе с Толиком выскочил из мастерской. А через минуту, волнуя и призывая, взревел мощный прерывистый гудок, поданный по их требованию машинистом компрессорной Горстроя. И хотя никаких общих указаний, как вести себя в подобной ситуации не было, и никто единой команды не подавал, все, однако, действовали согласованно. В каждой бригаде и даже звене нашелся человек, который сразу, как только заревел гудок, встал и крикнул, обращаясь к своим товарищам: «Кончай работать! Хватит! Наработались!» И когда гудок умолк, ни один кран не двигался, не стучал ни один молоток. Работяги группами и в одиночку тащились к двум уже достраивавшимся домам, из которых хорошо просматривалась зона 5-го отделения, где все еще стоял крик. Всем хотелось увидеть и понять, что там происходит. Они толпились у проемов окон, теснились на балконах, а кое-кто забрался на крышу и, махая флажками, пытался, пользуясь морской азбукой, связаться с кричавшими. Крик этот надрывал душу. Каждый слышал зов о помощи, рвался, чтобы как-то помочь товарищам, а помочь ничем не мог. И, слушая, в бессильной злобе скрипел зубами. И вдруг снова автоматная очередь. Люди на мгновение опешили, а потом как-то сразу закричали, и голоса полутора тысяч человек нашего оцепления слились в единый громкий протест с голосами двух с половиной тысяч лагерников 5-го отделения. И никто в данную минуту не думал об опасности, никому не была страшна смерть. Все мы были ослеплены охватившей нас яростью и кричали, поражая слух и вольнонаемных жителей близлежащих домов, которые, прильнув к окнам или выбежав на улицу, сочувственно смотрели в нашу сторону, и эмгэбистов, которым не терпелось заткнуть нам рот. Но и те и другие молчали: первые — осознавая свое бессилие, вторые — понимая, что сейчас пламя нашего гнева им не остановить, что сейчас любая акция, предпринятая ими против нас, только подольет масла в огонь и пламя это возгорится с еще большей силой. Бериевцам ничего иного не оставалось, как ждать, когда улягутся наши страсти. И они ждали, а мы кричали. Мы во всю силу своего голоса взывали к гражданским чувствам жителей Норильска и не успокоились даже тогда, когда нам удалось-таки связаться с лагерниками 5-го отделения и узнать от них, что возмутившая нас автоматная очередь была не очередным террористическим актом, а божьей карой, — ею был убит стукач Абрамов, который, испугавшись возможного возмездия, вскочил в запретку. Движимые яростью, мы ничего не признавали, кроме ее самой, и, несмотря на обнаружившуюся ошибку, продолжали кричать и кричали долго, пока не удовлетворились трусливой растерянностью краснопогонников и не дали им ясно понять, что играть с автоматом опасно. А потом мы гуляли по зоне оцепления: ходили толпами взад-вперед, словно по проспекту вечернего города, и вызывающе громко разговаривали, нарочито демонстрируя перед конвоирами свою беспечность и пренебрежение к страху перед смертью. Мы как бы старались убедить их, что жизнь для нас не стоит ломаного гроша и терять нам нечего. Кое-кто даже пытался затянуть песню, но это было уже слишком, и он тотчас замолк, остановленный укоризненными взглядами товарищей. На душе было муторно. Мы чувствовали себя так, как чувствует себя приговоренный к казни накануне исполнения приговора. И беспечность наша была всего лишь ширмой, за которой, пребывая в ожидании ответных мер МГБ, мы прятали свою тревогу. <...>
В 11 часов вечера с миротворческой миссией к нам в оцепление Горстроя пожаловали: полковник Полтава, полковник Толмачев, Гумбин и начальники 4-го и 5-го отделений — Нефедьев и Ширяев. Увидев этих представителей власти, так и хотелось воскликнуть: «Ба! Знакомые все лица!» Всех их мы знали как свои пять пальцев. Это были люди ограниченные и жестокие. Во всяком нарушении режима им чудился вражеский умысел, пресекая который они в каждом конкретном случае отыскивали зачинщиков и на них потом отыгрывались, считая их агентами мирового империализма. Общая масса людей ими в расчет не принималась, они рассматривали ее как стадо, послушное кнуту пастуха. И хотя почти каждый конфликт с нами убеждал их в противном, однако в силу своей полицейской тупости они продолжали поступать так, как это было вбито им в голову и предписывалось инструкцией. Войдя в зону, вся эта группа направилась не к нам, стоявшим у домов и ожидавшим их, а по рабочим объектам в расчете, что работяги, оставленные на этих объектах для соблюдения порядка, не осмелятся перечить их требованиям и своей покорностью предоставят внушительный козырь в предстоящем разговоре с зачинщиками. И поначалу они могли быть довольными: все шло, как было задумано, без какой-либо осечки. Они прошли на электроподстанцию, и та начала работать, потом зашли в компрессорную, и компрессорная заработала, следом пустили котельную и бетонный завод и только после этого соизволили подойти к нам.
— Почему бросили работать? — подойдя, загремел Полтава. — Это саботаж! Экономическая контрреволюция! Приказываю разойтись и приступить к работе!
Мы стояли густой толпой, и в ответ на грозный приказ полковника никто из нас даже не переступил с ноги на ногу.
— Вы что же это? — Несколько умерив свой пыл, уставился на нас Полтава. — Отказываетесь повиноваться? Или, может, боитесь тех, кто подбил вас на этот бунт?
— Мы не бунтуем, — возразил стоявший среди толпы Миша Куржак. И, подняв на Полтаву глаза, пояснил: — Мы рады были бы работать, да у нас опускаются руки. Зачем работать? Вы же нас за людей не считаете... Стреляете, как собак каких. Вы только что застрелили в пятой зоне четырех наших товарищей...
— Так это же в пятой зоне, — прервав Мишу, вскинулся майор Нефедьев.
— Но почему тогда не работают бригады 4-го отделения? У нас, в четвертом, не стреляют. У нас — порядок.
Я сидел на бетонной балке, но при этих словах вскочил, словно больно ужаленный.
— Так это у тебя порядок?! — выкрикнул я в лицо Нефедьеву и дал волю своему негодованию: — А разве это не у тебя стреляли по людям в тюрьме?! Разве три человека, которых застрелил солдат по дороге в лагерь, были не из 4-го отделения?! Это разве не у тебя привязывают людей к саням и волоком тащат на работу?! Не у тебя ли надзиратели, как дикие янычары, лютуют от подъема до отбоя?! И у тебя — порядок?!
Такой неожиданно бурный выпад, излившийся на Нефедьева и иже с ним эмгэбистов, привел их в замешательство. И до этого молча стоявшая наша толпа вдруг заволновалась и загудела, послышались крики:
— У нас нет больше сил терпеть ваши издевательства!
— Довольно с нас произвола!
— Никакой работы!
— Требуем московскую комиссию!
И тут же под аккомпанемент этих выкриков вперед вышел бригадир белорусской 23-й бригады Иван Гальчинский. Он вопрошающе покосился на обескураженное начальство и, остановив свой взгляд на Полтаве, заявил ему:
— Вот что, гражданин полковник, пугать нас контрреволюцией — пустая затея. Мы уже пуганы. И если у вас не нашлось для нас лучших слов — разговор окончен. Мы требуем вызвать сюда московскую комиссию и до ее прибытия работать не станем.
Сделав это заявление, Гальчинский отступил шаг назад, повернулся к нам лицом и, бойко вскинув голову, крикнул:
— 23-я бригада, на выход! За мной!
И тотчас 23-я бригада отделилась от толпы и последовала за своим бригадиром. Они в присутствии начальства вторично остановили компрессорную, котельную, бетонный завод и на этот раз остановили надолго. Отступать нам было уже невозможно.
 В эту же ночь был образован забастовочный комитет. В его состав вошли:
Кляченко, Николишин, Кушта — украинцы; я и Семен Крот — белорусы; Трофимов, Иван
Стригин, Смирнов — русские; Петрушайтис — литовец; Григорий Сальников — еврей;
Роман Елоян — армянин; Гладысевич — поляк; Ахмед Гуков — чеченец. В ту же ночь
только что созданный комитет принял решение требовать полномочную московскую
комиссию и до прибытия таковой ни на какие соглашения с местными властями не
идти и к работе не приступать.
В эту же ночь был образован забастовочный комитет. В его состав вошли:
Кляченко, Николишин, Кушта — украинцы; я и Семен Крот — белорусы; Трофимов, Иван
Стригин, Смирнов — русские; Петрушайтис — литовец; Григорий Сальников — еврей;
Роман Елоян — армянин; Гладысевич — поляк; Ахмед Гуков — чеченец. В ту же ночь
только что созданный комитет принял решение требовать полномочную московскую
комиссию и до прибытия таковой ни на какие соглашения с местными властями не
идти и к работе не приступать.
Рано утром матрос Касьянов с помощью азбуки Морзе передал в 5-е отделение сообщение о принятом нами решении и оттуда, из 5-го отделения, ответили, что они также создали забастовочный комитет и выдвигают такие же требования.
Забастовка обретала организованный характер. И когда это стало очевидным фактом, взбунтовалось 6-е отделение, которое состояло из двух зон — каторжной и итээловской (исправительно-трудовой лагерь). Инициаторами выступили каторжанки во главе с Марией Нагорной и Анной Мазепой. Они сломали забор, разделявший зоны, и, соединившись с итээловками, также создали забастовочный комитет. В его состав вошли: Мария Нич, Леся Зеленская, Мария Нагорная — украинки; Люда Сафранович — белоруска; Ирена Мартинкуте — литовка; Аста Тофри — эстонка; Лидия Дауге — латышка.
Узнав о бунте в 6-м отделении, мы в Горстрое встретили это сообщение громким ликованием. На душе у каждого из нас был праздник. К сожалению, этот праздник долго продолжаться не мог. С точки зрения МГБ, это был вражеский выпад против советской власти, пресечь который оно считало своим патриотическим долгом. Не изменило себе это ведомство и на этот раз.
В 10 часов утра ворота нашего оцепления открылись, и в зону вошли директор Норильского комбината полковник Зверев, генерал Семенов, полковник Желваков и начальник Горстроя подполковник Муравьев. Все они шли вместе одной группой, а впереди них, соблюдая социальную субординацию, шел главный инженер Горстроя бывший наш лагерник Якушев. Выказывая приличествующее такому высокому начальству почтение, им навстречу вышли я, Куржак и Гальчинский. Поравнявшись с Якушевым, мы остановились, Куржак отрапортовал:
— Гражданин главный инженер! На вверенном вам строительстве объявлена всеобщая забастовка.
Якушев огляделся по сторонам и, чуть подавшись к нам, ответил:
— Спасибо. Большое спасибо. Довольно им произвольничать! Молодцы! Я одобряю...
Но времени для излияния своих чувств у Якушева уже не было, и я прервал его:
— Гражданин главный инженер, сзади подходят ваши. Проходите мимо.
Якушев понял меня и, согласно кивнув головой, пошел вперед. А мы остались
стоять, ожидая Зверева и его компанию.
Подойдя к нам, Зверев окинул нас недобрым взглядом и презрительно ухмыльнулся:
— Это что — передовой пост?
— Напрасно иронизируете, гражданин полковник, — заметил ему Гальчинский. — Это предупредительный пост.
— Гм... — Зверев похмурел, уставился на Гальчинского и спросил: — И о чем же вы хотите предупредить нас?
— А чтобы вы, гражданин полковник, в разговоре с людьми не зарывались и вели себя корректно, не допуская оскорбительных выпадов, — ответил Гальчинский и, бросив на Семенова пытливый взгляд, пояснил: — Люди очень озлоблены. Они считают генерала и вас виновными в творимом здесь произволе и расстрелах, и любая ваша неосторожность...
— Какая неосторожность?! — побагровев, заревел Зверев. — Вы провокаторы! Я буду говорить с работягами! Они знают меня. — И, не став более слушать нас, энергично направился к толпившимся невдалеке людям. Следом за ним, обогнав нас, пошли Семенов с Желваковым и Муравьевым.
Толпа притихла. По тому, как все они шли, оставив нас далеко позади себя, люди поняли, что между нами и ними произошла размолвка, и насторожились.
— Здорово, молодцы! — остановившись у толпы, гаркнул Зверев. Но в ответ никто не
обронил ни звука. Молодцы молчали. И Зверев обмяк.
— Вы что же это, братцы, меня не узнаете?
— Почему не узнаем? — послышалось из толпы. — Узнали.
— Так в чем же дело? — оживился Зверев. — Давайте разберемся. Вы же хорошие работяги. Я было премировать вас хотел, уже посылки для вас приготовил, а вы... Что случилось?
— Интересно у вас получается, — как бы недоумевая, обратился к Звереву Николишин. — Ты за хорошую работу посылки нам давать собирался, а вот он... — Николишин кивнул в сторону генерала Семенова и компании, — перестал платить нам за работу, лишил книг, ларька, запретил переписку с родными, лютует в лагере, как волк в овчарне, и потихоньку постреливает нас, будто дичь какую. Что ж это между вами случилось? Разнобой выходит. Ты вроде за справедливость, а он беззаконничает.
— Никто не беззаконничает, — прервал Николишина Семенов. — За совершенное вчера преступление начальник конвоя будет отдан под суд, а относительно ограничений, которые вас возмущают, то эта мера временная: введена она ввиду чрезвычайного положения и в строгом соответствии с постановлением, подписанным начальником ГУЛАГа генерал-лейтенантом Долгих.
— Ага! — догадливо воскликнул Вася Лубинец. — Так это, значит, Долгих повинен в творимом здесь произволе? А вы вроде сбоку-припеку, только исполнители?! В таком разе, — повысив голос, заявил Лубинец, — нам с вами говорить не о чем. Вызывайте сюда Долгих и представительную московскую комиссию, желательно комиссию ЦК.
Толпа колыхнулась, и сотни людей, подхватив это заявление Лубинца, закричали, требуя московскую комиссию.
— Погодите! — выбросив вперед руку, крикнул Зверев.
И когда люди умолкли, он принялся доказывать, что, протестуя подобным образом, они ничего не добьются, что им лучше прекратить «волынку», и, если они это сделают, обещал самолично рассмотреть их жалобы и удовлетворить законные претензии.
— Ну, так как, молодцы, ссориться или мириться? — выкрикнул он в заключение и впился глазами в Аношкина. — Вот ты, старик, как думаешь?
— Я-то что? — Развел руками Аношкин. — Я думаю, что оно мириться бы лучше. Да только не видел я мира между лисом и петухом. Не бывает такого мира. И все-то ты, гражданин полковник, врешь, все-то твои слова — это лисья хитрость, употребленная тобой затем, чтобы успокоить нас да потом потуже затянуть на нашей шее петлю. Не верим мы тебе.
— А кому же вы верите? — прищурив глаза и устремив их на Аношкина, спросил Желваков.
— Себе верим. И только себе.
— А может, вовсе не себе, а вот тем провокаторам... — и Желваков указал пальцем туда, где стояли я, Куржак и Гальчинский, — которые подбили вас на этот преступный саботаж?
— Преступный?! — вскрикнул Аношкин. — А расстреливать невинных людей — это не преступно?! А морить в карцере, а рубашку одевать, к саням привязывать — это не преступно?! И может, не вы провоцируете на эти преступления солдат и надзирателей? Как же вы такие можете приходить к нам, смотреть нам в глаза, красивые речи баять да еще пальцем показывать на людей, которые по сравнению с вами ангелы Божьи? Эх, вы! — Аношкин в отчаянии махнул рукой и круто повернулся к лагерникам. — А вы что стоите, уши развесили?! — крикнул он притихшим людям. — Расходитесь! Здесь некого слушать. Все расходитесь!
И через несколько минут на площадке перед домами остались только четыре эмгэбэшника, главный инженер да нас трое.
— Не вышел из тебя, гражданин полковник, дипломат, — заметил Звереву Миша Куржак. — А мы тебя предупреждали.
Зверев зло покосился на нас, но ничего не сказал и вместе со всеми пошел к воротам.
Теперь, соблюдая социальную субординацию, главный инженер шел позади всех, а за ним шли мы втроем, являясь как бы спецарьергардом, прикрывавшим бесславный уход из зоны высокого начальства и не позволявшим этому начальству встретиться со стукачами. Это было невероятно. Губернатора Таймыра выпроваживали работяги, а он терпел подобное унижение! Во все глаза смотрели на это парадоксальное зрелище заключенные 9-го отделения Норильлага, которые работали на строительстве дома, возводимого рядом с нашим оцеплением. Их потешало это зрелище, но, видя его, они ничего в нем не могли понять. И как только Зверев и компания, сев в машины, уехали, нас окрикнул какой-то их бригадир.
— Что у вас происходит? — спросил он.
— Забастовка, — ответил я бригадиру. И коротко объяснил ему, что за забастовка, из-за чего и во имя чего, призвал его поддержать нас, подать свой голос против произвола и в защиту заключенных, сидевших по статьям, не подлежавшим амнистии, а именно: по 58-й, 193-й (за дезертирство) и Указу от 7-8 августа 1932 года (за хищение социалистической собственности) — и требовать пересмотра дел по этим статьям.
Бригадира агитировать было не нужно. Выслушав меня, он повернулся к своим людям и приказал им сдать инструмент и построиться. А когда те выполнили его приказ, обратился к конвоиру.
— Начальник! — крикнул он ему. — Уводи в зону. Работать не будем. Мы все тут одной веревочкой связаны, нам здесь друг без друга нельзя.
Поведение этого бригадира и отношение к забастовке главного инженера Горстроя ободрили нас. Стало очевидно, что люди Норильска сочувствуют нам и многие готовы поддержать нас практически, лишь ждут твердого нашего слова. И мы с таким словом медлить не стали.
В 13 часов над Норильском появился первый бумажный змей с 80 листовками, перевязанными подожженным ватным шнуром. В определенное, точно рассчитанное время шнур перегорал, освобождая листовки, и ветер рассеивал их в заданном районе. Змей был одной из тех выдумок, на которые, говорят, голь богата, и отныне мы запускали его ежедневно, информируя норильчан о положении в нашем оцеплении и в зонах 5, 6 и 4-го отделений, об обстановке в которых мы узнавали от повара, привозившего в оцепление кормежку.
Этим поваром являлся бывший иранский летчик. В 1948 году во время ночного полета он сбился с курса и был вынужден совершить посадку на одном из аэродромов в Армении. На запрос иранского правительства о пропавшем в советском небе самолете компетентные органы ответили, опубликовав ответ в газете «Правда», что самолет разбился, летчик погиб. А чтобы эта версия никем не оспаривалась, в кабинетах МГБ Абдуллу нарекли Кузьмой, дали ему русскую фамилию и доставили в Горлаг, где он стал нашим поваром. И никого не смутило то обстоятельство, что этот кабинетный Кузьма совсем не знал русского языка. Видимо, МГБ считало, что лагерь восполнит этот пробел. Однако, прибыв в лагерь, Абдулла замкнулся в себе и учиться русскому языку не стал. За три года пребывания с нами он не научился по-русски даже правильно ругаться и разговаривал с нами больше жестами и мимикой, чем словами. Обыкновенно такая его речь забавляла нас, вызывала улыбки, но во время забастовки эта речь стала единственным источником, из которого мы могли получить сведения о том, что делается в 4-м отделении. И, слушая Кузьму, мы не улыбались, а по-настоящему ломали головы, стараясь в меру наших лингвистических способностей разобраться в том, о чем он нам рассказывал. А разобраться было непросто.
— Там... вычор... лагеря, — говорил он нам, приехав с обедом в первый день забастовки, 26 мая, — конвой на вышке «бух-бах» стрелил Петра Климчук. Люди злой, крычат. И начальник злой, крычит. Начальник хочет Климчук взять. Люди не хочет. Сыгодни зона, на стол... гроб... Люди ходят у гроб... на коленки... Плачут... Все плачут. Скоро три часа. Похороны. Просил пять минут всем похороны Климчук. Будет большой гудок. Зона гудок. Похороны пять минут... Три часа. — И, взявшись руками за голову, застонал: — Ой-е-ой. Горе. Люди, горе. Большой хипиш. Ой-е-ой...
А через двадцать минут, обсудив это сообщение Абдуллы и придя к единому мнению относительно его содержания, мы передали на 5-е и 6-е отделения следующее:
— Вчера, вечером, в 4-м отделении застрелили Петра Климчука. Хоронить будут в зоне сегодня в три часа дня по гудку котельной отделения. Просят во время похорон Климчука всем почтить его память пятиминутным молчанием.
<...>
В три часа, больно тронув душу, тишину разорвал далекий глухой гудок. И тотчас, вторя ему, заревел гудок нашей компрессорной. Во всех зонах двадцать тысяч человек в одно мгновение сняли шапки и, выпрямившись, застыли на месте. Нервная спазма сдавила горло. Люди всхлипывали, у большинства по щекам катились слезы. Впервые мы официально хоронили своего товарища и, оплакивая его, оплакивали и десятки тысяч других, похороненных у Медвежки. Все они стали жертвами произвола, погибли безвременно, будучи лишенными имени. Они взывали к отмщению. И, роняя слезы, мы вместе с тем кипели негодованием. В эти скорбные минуты похорон Климчука каждый из нас, пока еще оставшихся в живых, давал себе клятву никогда не забывать этого нашим тюремщикам и делать все, что в силах, чтобы сдержать свою клятву.
И мы сдержали.
Вскоре после похорон снова взвился в небо наш бумажный змей с листовками, а на стене, обращенной к Норильску, появился десятиметровой длины лозунг: «Граждане Норильска! Сообщайте ЦК партии и ООН: нас морят голодом и убивают. Мы просим помощи».
Эмгэбисты нервничали. Наши действия выводили их из себя. Они понимали опасность, заключавшуюся в этих действиях, но не могли найти, что предпринять, чтобы как-то образумить нас и заставить прекратить «волынку». Они бились над неразрешимым для себя вопросом. А между тем во всех районах Норильска читали наши листовки, а забастовка ширилась.
27 мая не вышли на развод лагерники 1-го и 3-го отделений Горлага. Комбинат, жизнедеятельность которого всецело зависела от жизнедеятельности лагерей, остановился. Погасли отражательные печи, замерли конвертеры, перестали дымить трубы медеплавильных заводов, никелевого, БОФа, умолк рабочий шум в рудниках и на стройплощадках. Норильск бастовал. Это была коллективная солидарность товарищей, одинаково уставших терпеть разнузданный произвол местных властей. А по мере того как росла эта солидарность, властям все более становилось очевидно, что им своими силами с нами не справиться. Однако, несмотря на очевидное, вызывать представительную комиссию не спешили: они боялись, что не смогут дать удовлетворительного объяснения случившемуся и комиссия может заняться поисками такого объяснения в их непосредственных действиях. А такие поиски ничего хорошего им не сулили. У них у всех было рыльце в пушку, и, выбирая из двух зол меньшее, генерал Семенов предложил авантюру. Он вызвал к нам не комиссию, как мы того требовали, а замминистра цветной металлургии генерал-лейтенанта Панюкова, который долгое время был директором Норильского комбината и славился своим либерализмом. Особенно тепло отзывались о Панюкове инженерно-технические работники (ИТР). По их словам, он дорожил ими и, используя их по специальности на строительстве БОФа и 2-го никелевого завода, требовал, чтобы оперативники и надзиратели излишне не докучали им своими грубостями и притеснениями. Они считали Панюкова толковым начальником, умеющим ладить с людьми, и его директорство вспоминали как наиболее благополучное время в своей лагерной биографии. Тогда, в его бытность директором, заключенные профессора Юшко и Шейко-Сахновский преподавали в горно-металлургическом техникуме, а Станислав Михайлович Бигель находился в одном кабинете с полковником Агафоновым — заместителем Панюкова. То было время, когда в связи с государственной необходимостью, вызванной послевоенной разрухой, мирно уживались вместе хищники и их жертвы. Но то время давно миновало. Следуя доктрине Сталина, гласившей, что чем ближе к социализму, тем ожесточеннее классовый враг, МГБ все поставило на свое место.
В Норильске были созданы Горлаг и Цемстрой, и профессора Шейко-Сахновский и Юшко, как и все итээровцы, не только не пользовались никакими привилегиями, но и были зачислены в разряд самых опасных «врагов народа» и теперь возглавляли забастовку. Для них при этих новых отношениях, которые на данный момент установились между лагерниками и администрацией, генерал Панюков уже не мог быть авторитетом. Протестуя против насилия и произвола, мы одинаково протестовали и против того, что переживали сегодня, и против того, что пережили вчера. А Панюков был всего лишь авторитетом пережитого нами вчерашнего дня. К сожалению, генерал Семенов этого не понимал. Он считал, что Панюков сумеет договориться с когда-то работавшими вместе итээровцами, а те, сделавшись штрейкбрехерами, внесут разлад в наше единство, и мы вынуждены будем прекратить забастовку. Не сомневался в успехе этого предприятия и сам Панюков. Получив от Семенова сообщение о «волынке», он тотчас вылетел в Норильск и 29 мая в сопровождении Зверева, Семенова и большой свиты старших офицеров МГБ прибыл в наше оцепление.
Увидев его, мы все, находившиеся в оцеплении лагерники, собрались на расчищенной площадке, впереди уже обжитого нами дома.
— Что же вы такое, сыночки, затеяли? — спросил он, подойдя к нам и, видимо, осознавая себя нашим отцом и благодетелем.
— Захотели людьми называться, — сделав шаг вперед, пояснил ему Куржак и тут же добавил: — А вот сыночками твоими не хотели бы быть.
— Чем же это я неугоден вам?
— Слышали мы от людей, — отвечал Куржак, — что будто, когда твой родной сын на фронте был, ты, будучи здесь, в Норильске, жену у него увел. А потом, когда твой сын захотел увидеться с тобой и поговорить, ты его дальше Игарки не пустил, и он месяц сидел на Игарке, ждал — не потеплеет ли отцовское сердце. Но, видно, на полярном морозе твое сердце заледенело, и он так и уехал, не повидав отца. Это правда?
Панюков недоуменно развел руками:
— Я не понимаю, какое имеет отношение эта правда к тому, что вы затеяли?
— Простите, гражданин генерал, — вызвался ответить Панюкову Гальчинский. — Прежде чем разговаривать с вами, мы хотели убедиться, можно ли вам верить. Оказывается — нельзя. Если уж вы такое с сыном сотворили, то чего же нам ждать от вас?
— Да при чем здесь мои отношения с сыном? — возмутился Панюков. — В конце концов это мое личное дело. А верить мне или не верить — вы спросите об этом своих старших товарищей. Меня в Норильске знают многие, и я не прячу от них свои глаза. — При этих словах он бойко вскинул голову и, шаря по толпе глазами, выкрикнул: — Есть здесь итээровцы, которые работали вместе со мной?
Вперед вышли Донич, Шейко-Сахновский и Кляченко.
— Владимир Дмитриевич, — обратился Панюков к Доничу, — надеюсь, тебя не нужно убеждать, верить мне или не верить, ты меня знал не один год. Так скажи мне, что здесь происходит? Почему комбинат остановили?
— Вот эти все люди, — Донич указал головой на нашу толпу, — не хотят более терпеть беззакония и требуют пересмотра дел в открытом суде по месту их прежнего жительства.
— Вы это серьезно?
— Как видите — серьезнее некуда.
— А как вы лично к этому относитесь? Донич поднял глаза и впился ими в Панюкова.
— У меня, гражданин генерал, к вам особый счет. Вы узурпировали власть и обошли идеи Октябрьской революции, за которые я всю жизнь боролся в рядах сторонников Ленина. Я буду требовать не только пересмотра дела, которое, кстати, состряпано курам на смех...
— Требуйте, — прервал Донича Панюков, — но не нарушайте порядок. Не останавливайте комбинат, когда стране дорог каждый килограмм меди и никеля. За такое знаете... — Он перевел свой взгляд на Шейко-Сахновского и сказал: — Я думаю, вам, профессор, объяснять это не нужно?
— Почему же? — возразил Глеб Павлович. — Объясните. И я послушаю. Только хочу вам сказать со всей определенностью: пока не приедет сюда московская комиссия и не удовлетворит наши претензии, мы забастовку не прекратим.
— Как?! — опешил Панюков. — И вы туда же, заодно с ними? Ничего не понимаю. Я не узнаю вас. Вы всегда были таким рассудительным — и вдруг... Какая бешеная собака вас укусила? Вы потеряли чувство реальности, забыли, где находитесь, и подняли голос против советской власти...
И толпа, услышав в словах Панюкова угрозу, сразу задвигалась и громко закричала, требуя прекратить переговоры.
— С кем здесь разговаривать? — кричал Слава Жиленко. — Это такой же ворон, как и Семенов. Они друг другу глаз не выклюют.
— Братцы! — взывал к людям Толик Гусев. — Кончай с ним баланду травить. Он произвол мусоров считает советской властью. Кого слушаем?!
— Довольно нас пугать! — обращаясь одновременно и к Панюкову, и к лагерникам, закричал Касьянов. — Здесь нет больше трусов. Свобода или смерть!
И десятки людей, подхватив этот брошенный Касьяновым призыв, принялись скандировать:
— Свобода или смерть!
Было очевидно, что визит Панюкова не оправдался. Более здесь ему делать было нечего. Излишне возбужденные люди вряд ли смогли по достоинству оценить его красноречие. Поняв это, он перекинулся двумя-тремя словами со Зверевым и Семеновым и, видимо придя с ними к общему мнению, ушел из оцепления, ушел дипломатично, даже не бросив на нас косого взгляда, как будто наше поведение при встрече с ним нисколько не задело его самолюбия. А на самом деле, уйдя от нас, как побитый пес, он был вне себя от распиравшей его злобы. Особенно его донимало поведение некогда покорных ему итээровцев — Донича, Шейко-Сахновского, Кляченко. Он не мог забыть их вызывающе-смелых речей и, горя нетерпением показать им кузькину мать, тут же распорядился подбросить во все лагеря и оцепления листовки к работягам не слушаться провокаторов ИТР, объединяться против них и убегать из зоны. А чтобы стимулировать такие действия работяг, приказал генералу Семенову собрать под свое личное командование офицеров, внезапно ворваться с ними в какое-нибудь отделение, захватить итээровский барак, взять его жителей и, научив их начальство любить, заставить выступить против своих единомышленников. Панюков все еще рассчитывал, что он сможет «без драки попасть в большие забияки», и, движимый оскорбленным самолюбием, спешил не упустить такой шанс. Не одолев нас мытьем, он решил сделать это катаньем.
И уже вечером 29 мая в нашем оцеплении и во всех отделениях Горлага появились листовки. Однако ожидаемых беспорядков не случилось. В лагерях продолжало царить единство. Ни один заключенный из зоны не побежал. Напротив, эти листовки возмутили работяг. Они усматривали в обращенных к ним призывах унижение своего достоинства и еще сильней тянулись к ИТР.
Во всех отделениях стихийно возникли митинги, на которых лагерные остряки, протестуя против этого унижения, вызвались отплатить МГБ такой же монетой и тут же, на митинге, писали ответ, не скупясь на выражения вроде тех, что содержатся в письме запорожцев к турецкому султану. И в тот же вечер такой ответ был отдан на проходную для передачи его генералу Панюкову. Мы надеялись, что подобный ответ вразумит Панюкова, даст ему ясно понять, что единство наше — не колосс на глиняных ногах и коварством его не сломить. Но Панюков, видно, был из породы скотининых — крепок не умом, а лбом и от своего принятого накануне решения не отступил.
В 10 часов утра 30 мая к воротам 5-го отделения подъехали четыре пожарные автомашины и сразу за ними туда подошел большой, около трехсот человек, отряд офицеров, предводительствуемый генералом Семеновым, и тотчас поднятые по тревоге все лагерники выскочили из бараков и густой стеной расположились напротив ворот во всю ширину зоны, перекрыв таким образом все пути в лагерь, в том числе и к итээровцам. Застать их врасплох не удалось. Но генерала Семенова это обстоятельство не смутило. <...>
Обратившись к начальнику охраны, он приказал открыть ворота и, увлекая за собой офицеров, решительным шагом направился к молча стоявшим лагерникам.
— Ложись! — гаркнул он, подойдя к ним.
Но лагерники как стояли стеной, так и продолжали стоять. Никто из них даже не шелохнулся.
— Приказываю: «Ложись!», — повторил генерал и тут же, остановившись, резко повернулся к офицерам и скомандовал: — Взять их!
Но в то же время раздался зычный голос какого-то лагерника:
— Бей их!
И случилось непредвиденное. Офицеры остановились, а стена заключенных дрогнула и двинулась на них, охватывая их с флангов и беря в клещи.
— Отрезай от ворот! — продолжал кричать тот же лагерник.
— Не выпускать из зоны! Смерть палачам!
И генерал Семенов вдруг понял, что это не прежние времена, и, испугавшись возможности оказаться в неприятном положении, бросился бежать.
А вслед за ним, толкаясь и обгоняя друг друга, побежали и офицеры.
Лагерники заулюлюкали и, все плотнее сжимая их с боков, угрожающе кричали:
— Тормози их!.. Держи!.. Бей!
А на самом деле они никого не тормозили, не держали и не били. Они только кричали. Но, охваченные паникой, офицеры этого не замечали и, слыша эти крики, спешили побыстрее унести из зоны ноги. Не заметили этого и пожарники. Увидев, что стена лагерников двинулась, а генерал повернул к воротам, они, не раздумывая, запустили моторы и холодной водичкой из четырех брандспойтов принялись поливать и чужих, и своих, в связи с чем паника среди офицеров усилилась. Они начали скользить и падать и вмиг из чистеньких стали грязненькими, из гордых орлов, какими они входили в зону, вдруг на потеху лагерникам превратились в мокрых куриц, убегавших с чужого двора. Видеть такое их бегство было нашей сокровенной мечтой. Наблюдая за ним, мы в своем оцеплении испытывали такой же душевный подъем, как и наши товарищи в 5-м отделении, и вместе с ними, подпугивая офицеров, кричали:
— Держи их!.. Смерть палачам!..
А едва ворота в отделении закрылись и уехали пожарные машины — тотчас торжествующе заревел гудок нашей компрессорной, и вскоре над Норильском появился наш змей с листовками, в которых мы извещали норильчан о провокационных действиях Панюкова и Семенова и просили сообщить об этих действиях ЦК партии.
Однако все эти наши контрмеры Панюкова не вразумили. Он все еще надеялся усмирить нас своей властью и, закусив удила, от одной авантюры бросился в другую.
Вечером 30 мая он выступил по громкоговорителю и, излив на нас свой гнев и досаду, посоветовал нам помнить, что ласковый теленок двух маток сосет, а бодливого бычка на бойню отправляют. Но и на этот раз мы его не послушались. Более того, вопреки его увещеваниям мы официально отказались признавать существующие в Норильске власти и во всех отделениях и в нашем оцеплении вывесили черные флаги. Не смог Панюков помочь своему другу генералу Семенову. Мы оказались ему не по зубам. И как ни ловчил Семенов, пришлось ему все-таки обращаться по инстанциям.
31 мая в Норильск прилетел генерал Гоглидзе. Увидев черные флаги, он сердито нахмурился, а узнав, что под этими флагами стоят более тридцати тысяч человек, пришел в неистовство.
— Это бунт! Вражеская вылазка! Как можно допустить такое?! — кричал он на Семенова и Желвакова. — Немедленно, сейчас... подавить и навести порядок! Законный порядок!
Неистовствуя, Гоглидзе был более подвержен одолевавшим его чувствам, чем разуму. И когда Семенов, объясняя обстановку, сказал ему, что без удовлетворения наших требований или применения против нас оружия здесь ничего сделать невозможно, он пренебрежительно махнул рукой.
— Глупости это. Такое мальчишка сказать может, а не генерал. Вы разучились работать. Не с того края беретесь. — И тут же вызвался лично показать, с какого края надлежит браться и что нужно делать.
Подопытными крайними он избрал нас — заключенных, находившихся в оцеплении Горстроя. Будучи, видимо, в черте города, мы более других мозолили ему глаза, а наш флаг, прикрепленный к макушке кран-деррика, действовал на него, словно красный плащ на обозленного быка.
Прибыв в наше оцепление, Гоглидзе приказал нам выйти из зоны и тем самым освободить производственный участок, иначе, предупреждал он нас, дальнейшее наше пребывание здесь будет рассматриваться как контрреволюционный саботаж. После непродолжительного обсуждения мы решили не испытывать судьбу. А едва вышли и построились в колонну, он обратился к нам, призывая нас прекратить бунт и обещая тем, кто сейчас при нем откажется бунтовать, золотые горы, вплоть до пересмотра дел. Но люди хорошо знали цену обещаний Гоглидзе, и ни один заключенный на уговоры не поддался. Мы стояли на своем, требуя полномочную комиссию. Ни уговоры, ни обещания на нас не действовали, и он наконец, в сердцах махнув рукой, приказал увести нас в лагерь. А когда соответственно его приказу наша единая колонна разделилась на две и одна двинулась в сторону 5-го отделения, а вторая — 4-го, неожиданно грянула песня:
Добры дэнь, маты,
Украина рыдна моя...
Это запели наши товарищи, которые во время пребывания Гоглидзе в оцеплении Горстроя сидели и стояли на крышах бараков 5-го отделения и не сводили глаз с нашего оцепления. Своей песней лагерники 5-го отделения выражали радость, что нам удалось устоять перед очередным искушением дьявола и без потерь возвратиться в лагерь.
С такой же радостью встретили наше возвращение и товарищи 4-го отделения. Едва наша колонна оказалась на виду у лагеря, как, приветствуя нас, заревел гудок котельной, и все, кто мог ходить, высыпали в зону. Ликующие крики огласили тундру. Нас встречали так же восторженно, как когда-то Москва встречала челюскинцев, снятых со льдины. И хотя нам не бросали под ноги цветы и нас не снимали кинооператоры, однако оказанный нам лагерниками прием был едва ли менее щедрым, чем тот, который был когда-то оказан челюскинцам, мужественно пережившим выпавшие на их долю бедствия. Нам крепко жали руки, с нами делились гарантийной горбушкой, а повар Абдулла-Кузьма сварил для нас гороховую кашу и выдал по кусочку горбуши.
Нас чествовали как героев. С нашим возвращением всем стало очевидно, что Гоглидзе и местные эмгэбисты боятся применить против нас оружие, — и люди повеселели. Появилась надежда, что правда восторжествует. И, согреваемые этой надеждой, лагерники выглядели именинниками. Все были возбуждены и радостны. У всех было приподнятое настроение. Впервые мы почувствовали себя хозяевами положения. Отныне лагерная администрация и действующие заодно с ней Панюков и Гоглидзе нам были не указ: более они нас не пугали. Однако пальцы им в рот мы не клали и, руководствуясь изречением «Не будь сам плох, то поможет и Бог», создали группы самозащиты, обязав их круглосуточно патрулировать лагерь, не позволяя оставшимся в зоне стукачам контактировать со своими шефами и решительно пресекая любые их попытки осуществить какую бы то ни было провокацию, для того чтобы дать повод бериевцам под предлогом наведения порядка применить против нас оружие. Впредь даже начальник отделения не мог войти в зону без сопровождения наших патрулей. Действия Панюкова и Гоглидзе вынуждали нас быть бдительными. Мы понимали, чего может стоить нам малейшая оплошность. И, принимая меры предосторожности, имели на это свой резон. Благодаря этим мерам 1 июня в 5-м отделении были остановлены стукачи, пытавшиеся поджечь продовольственный склад, и в тот же день в нашем 4-м отделении была сорвана попытка устроить резню между чеченцами и кубанскими казаками, всуе используя имя Шамиля, а также попытка спровоцировать националистически настроенных украинцев на конфликт с поляками. В лагере то и дело ревел гудок котельной, оповещая об очередной вылазке стукачей, которые, точно клопы в наших бараках, не давали нам ни минуты покоя, и от них, как от клопов, не было иного спасения, кроме как подвергнуть дезинсекции весь лагерь. И хотя многие авторитетные лагерники были против такой общей дезинсекции, однако забастовочный комитет, принимая во внимание содержащуюся в действиях стукачей опасность, в связи с которой сотни людей могли стать жертвами спровоцированного произвола, принял решение вскрыть сейфы оперативных работников МГБ и ознакомиться с хранившимися в них досье. Для выполнения этого решения была создана специальная комиссия в составе Коваленко — юриста, моего земляка из Минска; Володи Недоросткова — экономиста из Саратова; Валентина Чистякова — инженера, кандидата в мастера по шахматам; Виктора Льва — кандидата технических наук; Демьяненко — бывшего заместителя министра иностранных дел Украины. Это были люди компетентные и вместе с тем бывалые лагерники, хорошо знавшие, почем фунт лиха. Ни один из членов данной комиссии не нуждался в дополнительных разъяснениях. Все они понимали важность порученного им дела и приступили к нему незамедлительно, зная, что при сложившихся в лагере обстоятельствах всякое промедление с выполнением этого дела смерти подобно. Всю ночь охраняемые группой Николишина эти люди копались в бумагах кума, скрупулезно исследуя каждую написанную строку. И когда под утро подытожили результаты своих исследований, у них дыбом встали волосы, они отказывались верить тому, что обнаружили в бумагах, и снова, и снова перепроверяли себя, но документы, как и факты, — вещь упрямая. Ошибки не было. Каждый пятый лагерник оказался завербованным, имел в МГБ свое прозвище и являлся стукачом, а каждый второй был оклеветан ложными доносами и значился на особом учете как опасный преступник. Такого открытия не ожидали ни члены комиссии, ни члены комитета. Все они были ошеломлены такой массовостью. И, может, потому не стали их показывать всем, как предписывал лагерный закон, а ограничились лишь тем, что троих, наиболее повинных в страданиях наших товарищей, провели по баракам, а потом выпроводили за зону, к их хозяевам. Всем остальным предложили написать покаяние, в котором подробно изложить, где, когда, кем и при каких условиях был завербован и какого содержания доносы от него требовали. В данных конкретных условиях членов комитета более беспокоило, как бы не предоставить возможность генералу Семенову под видом спасения «честных» заключенных ввести в лагерь вооруженный конвой. Однако многие заключенные нас не поняли и подняли было бузу. Особенно усердствовали те, которые когда-то более других пострадали от стукачей. Эти последние не могли смириться с тем, чтобы некогда содеянное зло осталось безнаказанным. Они жаждали отмщения, и членам комитета пришлось немало попортить нервы, чтобы убедить не в меру горячих лагерников, что всякое отмщение в данный момент равнозначно самоубийству. Поначалу они и слушать не хотели ни о какой предосторожности. Но выдержка и принципиальная твердость комитетчиков в конце концов заставили их задуматься, а потом и согласиться с логично обоснованными доводами. <...>
Начиная со 2 июня во всех бараках, рабочих бригадах и в комитете шло обсуждение наших требований, которые мы намеревались предъявить московской комиссии. Сами требования возражений не вызывали. Нас беспокоило иное, а именно: каким образом надо обосновать эти требования так, чтобы комиссия их не отвергла? Всем нам было очевидно, что творимый в стране и лагерях произвол является чистейшей воды геноцидом, развязанным против своего народа. Но никто из нас не знал, как эту очевидную истину довести до сознания комиссии и убедить ее в настоятельной необходимости покончить с произволом и освободить невинные жертвы этого геноцида. Это была задача со многими неизвестными, и, решая ее, мы продолжали по баракам громко дискутировать. Но найти определенный ответ было непросто. Ясно лишь было одно: выдвигая такое требование перед московской комиссией, мы, в сущности, намеревались требовать изменения внутренней политики государства. А чтобы комиссия не отвергла наше требование, необходимо было предоставить ей обстоятельные свидетельства о грубом нарушении законности в стране и произволе в лагерях.
Чтобы достичь этой цели, мы обратились с просьбой к бывшим ответственным работникам НКВД, которые находились в нашей зоне, написать о тех фактах преступной деятельности НКВД, к которым они лично были причастны. К чести этих бывших, никто из них нам в нашей просьбе не отказал. Такие свидетельства написали: Кричман — начальник отдела НКВД (при Ежове), Глебов — начальник секретно-политического отдела, Ананьев — начальник управления НКВД по Орловской области, Рудминский — начальник Вязьмолага, полковник Ершов — работник «Смерша».
Все они в свое время участвовали в создании ГУЛАГа, арестовывали людей, не отличая правого от неправого, определяя меру наказания иногда соответственно указанию свыше, а чаще — по своему усмотрению. Особенно усердствовал Кричман. Это он по личному указанию Сталина арестовал члена Политбюро Бубнова, а потом проводил чистку в Наркомпросе, вузах, школах, культурно-просветительных учреждениях — спасал народ от интеллигенции и тем самым содействовал его одурачиванию. Не менее Кричмана усердствовал и Ананьев. За его бытность на Орловщине на промышленных предприятиях области не осталось ни директора, ни главного инженера — всех их Ананьев отправил в места не столь отдаленные проводить сталинскую индустриализацию. На костях своих жертв Рудминский строил дорогу Москва — Минск, а Глебов возводил промышленные гиганты в Ростовской области. Все они знали многое, и их свидетельства являлись, на наш взгляд, документом исключительной важности. А чтобы убедить комиссию, что сегодняшние наши палачи нисколько не лучше этих бывших, было предложено всем заключенным, которые не знали за собой никакой вины, написать индивидуальные жалобы.
Действуя подобным образом, мы стремились встретить московскую комиссию не с пустыми руками. К тому же, как нам было известно, стремился и забастовочный комитет 5-го отделения, в состав которого входили руководитель ОУН на Станиславщине Михаил Морушко, профессор Павлишин, уроженец Львова Евген Горошко, полковник-фронтовик Павел Фильнев, китаец Петр Дикарев, инженер Семен Бомштейн. Не сидели сложа руки и в 1-м отделении, где забастовочный комитет возглавляли старые опытные лагерники Павел Френкель, Иван Касилов, Михаил Измайлов, Георгий Зябликов и др. В этом отделении по инициативе Френкеля было принято обращение в Президиум Верховного Совета и подготовлен документ «Почему мы бастуем?». Готовились к встрече с комиссией и женщины 6-го отделения, и каторжане 3-го отделения.
Напрасно генерал Семенов и прибывший из Красноярска полковник (фамилию его не помню), выступая по радио, обращались к нашему благоразумию. В ответ на эти обращения мы поднимали бумажные змеи с листовками, призывая гражданское население Норильска поддержать нас в нашем правом деле. Мы были непреклонны в своем требовании. И наконец, убедившись в нашей непреклонности, генерал Семенов вынужден был подать сигнал бедствия.
6 июня 1953 года из Москвы в Норильск прилетела полномочная комиссия. В ее состав вошли: председатель комиссии — начальник тюремного управления МВД полковник Кузнецов, члены комиссии — командующий войсками МВД генерал-лейтенант Сироткин и два члена ЦК — полковники Михайлов и Киселев, а несколько позже в Норильск прилетел зам. генерального прокурора — генерал-полковник Вавилов. В тот же день в Дудинке выгрузились два батальона краснопогонников специального назначения. Очевидно, комиссия не мир несла, а меч. Но мы были полны решимости принять и меч. Терять нам было нечего.
7 июня комиссия вела переговоры в 5-м отделении. Со стороны заключенных в переговорах участвовали Марушко, Фильнев, Бомштейн, Дикарев, Петрушайтис. Переговоры длились около пяти часов и закончились временным согласием. В тот же день комиссия провела переговоры и в 6-м (женском) отделении и с тем же результатом. 8 июня состоялись переговоры с заключенными 1-го отделения. Они продолжались чуть ли не полный день и закончились безрезультатно. Лагерники решили продолжать забастовку до полного удовлетворения их требований. И только 9 июня комиссия прибыла в наше 4-е отделение.
Обращаясь к нам по радио, полковник Кузнецов сообщил, что комиссия прибыла в Норильск по личному указанию Берии, который, по его словам, был очень обеспокоен нашим конфликтом с местными властями, и что для облегчения нашей участи отныне наш лагерь переводится на обыкновенный режим бытового лагеря ИТЛ — снимаются номера с одежды, решетки с окон, запоры с дверей, ограничения на переписку с родными, уменьшается рабочий день до 8 часов, предоставляются книги и газеты, разрешается пользоваться деньгами и приобретать продукты в коммерческом ларьке по общеустановленным ценам, учитывая последнее их снижение.
— По всем иным вопросам, — говорил Кузнецов, — комиссия готова провести переговоры с вашими полномочными представителями, которых вы пошлете, но не более шести человек.
А когда он умолк, тотчас распахнулись ворота, и в их створе надзиратели поставили стол, покрыв его красной скатертью, и двенадцать стульев — по шесть с каждой стороны. По одну сторону стола, метрах в пятидесяти от него, стояла цепь солдат, по другую сторону на таком же расстоянии — толпа заключенных, а между ними, у ворот, недалеко от стола, стояли генерал Семенов, начальник отделения Нефедьев и группа офицеров МГБ.
Стоял на редкость тихий, погожий день. Залитая лучами полуденного солнца свободная площадка, что была между нами и солдатами, выглядела какой-то удивительно чистой, праздничной, хотя настроение у нас было непраздничное. Хотелось, чтобы все это побыстрее началось и определилось наше положение. Но минуты, как назло, тянулись медленно, точно время попридержало свой бег, испытывая наше терпение. И когда наконец из-за цепи солдат появилась московская комиссия во главе с Кузнецовым, все облегченно вздохнули. Тотчас навстречу ей вышли наши представители — Грицяк, Недоростков, Гальчинский, Мелень, Кляченко, Стригин и тут же следом за ними, уважив просьбу моих земляков и литовцев, вышел и я седьмым, незваным гостем, которого на Руси считают хуже татарина и встречают не лучшим образом.
— Вы зачем пришли? — уставился на меня Кузнецов, едва я подошел к столу. — Я приглашал только шесть человек.
Пропустив эти слова мимо ушей, я попросил дать мне стул.
— Вы что, русского языка не понимаете?! — выкрикнул Кузнецов.
— Стул прошу! — в тон ему, повысив голос, повторил я свою просьбу. Кузнецов нервно дернулся и глазами окинул сидевших лагерников, как бы искал у них поддержки. Но лагерники поддержали мое требование.
— Хорошо, — согласился Кузнецов. А когда принесли стул, недовольно буркнул: — Садитесь.
Но прежде чем сесть, я потребовал убрать с наших глаз генерала Семенова и майора Нефедьева.
Кузнецов вопрошающе покосился туда, где стояли Семенов и эмгэбисты, и недоуменно пожал плечами.
— Я не вижу смысла в этом требовании. По-моему, они нам не мешают.
— Жаль, гражданин полковник, что они вам не мешают, — заметил я Кузнецову и тут же добавил:
— Как видно, ваша справедливость небеспристрастна. В таком случае у нас с вами откровенного разговора не получится, а возможно, он и вовсе не состоится.
— Ну почему же? — всполошился Кузнецов. — Вы неправильно меня поняли. Я только высказал свое соображение. Но если вам угодно... — И он резко повернулся и приказал Семенову и Нефедьеву уйти отсюда с глаз подальше.
Я был польщен. И, неотрывно глядя в спину уходящим начальникам, сел за стол.
— Наверное, они здорово вас обидели, — испытующе уставясь на меня, заметил Киселев.
— Да не обо мне одном речь, — возразил я Киселеву. — Они обидели тысячи таких, как я. Это — оборотни, волки в человечьем обличье. — И я рассказал комиссии о творимом здесь произволе, о БУРе, ШИЗО, режимной тюрьме, о садизме подонков, свирепствовавших с ведома и по указанию администрации, о физических и моральных страданиях работяг, о жестокости надзирателей, мученической смерти Слепого, Маньчжурца, Бурмистрова и о многом другом, что видел своими глазами. Слушая меня, генерал-лейтенант Сироткин то и дело качал головой и возмущенно восклицал:
— Ах, сукины сыны! Что делали! Что вытворяли!
Качали головой и другие члены комиссии. А когда я закончил говорить, ко мне обратился генерал-полковник Вавилов.
— Скажите, — спросил он меня, — среди заключенных найдутся люди, которые письменно подтвердят все это, что вы сейчас рассказывали?
— Да, найдутся.
— Вы сможете, когда это понадобится, назвать нам их фамилии?
— С вашего разрешения, гражданин генерал, я хотел бы сейчас вручить вам такое письменное подтверждение.
Встав из-за стола и повернувшись к толпе лагерников, я позвал Коваленко, и тот незамедлительно явился и положил перед генерал-полковником Вавиловым увесистый пакет, содержавший 620 объяснительных записок бывших стукачей.
— Это, гражданин генерал, свидетельские показания секретных осведомителей МГБ, бывших в 4-м отделении Горлага, — пояснил я Вавилову и, чтобы он не сомневался в достоверности этих бумаг, добавил:
— Все эти показания написаны собственноручно, в порядке чистосердечного раскаяния.
— Разберемся, — пообещал Вавилов. И вдруг как-то неожиданно и некстати обратился к Коваленко:
— Скажите, кем вы работали до ареста?
— Я юрист, гражданин генерал, — ответил Коваленко, — работал в Госарбитраже.
— А здесь, в лагере, что делаете?
— Здесь я работяга, копаю котлован.
— Гм... — покачав головой, промычал Вавилов, но тут же снова испытующим взглядом уставился на Коваленко:
— Вы читали эти бумаги?
— Да, гражданин генерал, — утвердительно ответил Коваленко и, не смущаясь генеральского взгляда, продолжил:
— Это очень ценные бумаги. Мы вручаем их вам для возбуждения уголовного дела против администрации Горлага, многие офицеры которой, как свидетельствуют эти бумаги, являются агентами мирового империализма, пробравшимися в органы МГБ.
Вавилов криво усмехнулся и пытливо посмотрел на Кузнецова и других членов комиссии. Но те вели себя так, будто ничего особенного не услышали, и он, поняв, что «дуги гнут с терпеньем и не вдруг», последовал их примеру.
— Хорошо, — сказал он. — Мы изучим ваши бумаги. — А когда, повинуясь его приказу, Коваленко ушел, льстиво заметил:
— А вас голыми руками не возьмешь...
— Да и войсками тоже, — как бы не поняв лести, заявил Стригин. — Только многих людей порешите и на весь Союз шуму наделаете.
— Войсками вам никто не угрожает. С чего вы это взяли? — возмутился Кузнецов. — Мы приехали облегчить вашу участь, и это, как вы только что слышали, не пустые слова.
— Но это пока еще и не дело, — возразил Стригин. — В наших бараках, гражданин председатель комиссии, — обращаясь к Кузнецову, продолжал Стригин, — висят инструкции вполне определенного содержания, а они, как вам известно, имеют здесь силу закона. Вы в своем выступлении об этих инструкциях не сказали ни слова, так что получается, что слова ваши не согласуются с делом, это вроде тех обещаний, которым дураки рады.
— Я понял вас, — перебил Стригина Кузнецов. — Будут вам новые инструкции, будут.
— Позвольте узнать, когда они будут?
— Я думаю, этак через месяц, — ответил Кузнецов. Но, заметив по нашим лицам, что такой срок нас не устраивает, тут же поправился: — А возможно, и раньше. Это будет зависеть от того, как скоро мы вернемся в Москву и представим их в ГУЛАГ на утверждение.
— Но это опять только слова. — Разочарованно повел плечами Стригин. — Как нам убедиться, что вы сделаете так, как говорите? Да и вообще, станете ли еще делать, вот в чем вопрос. Где гарантии, что после вашего отъезда эти слова не развеет ветер и все здесь не вернется на круги своя?
Кузнецов молчал. Он явно не знал, как ему быть сейчас. Одно дело — объявить по громкоговорителю о переводе Горлага на облегченный режим, но совсем иное — удостоверить это документом за своей подписью. Он знал, что в случае чего такой документ мог стать свидетельством его преступной связи с врагами народа — неопровержимой уликой, при предъявлении которой не скажешь: «Я ни я, и подпись не моя». Кузнецов был опытным эмгэбистом и рисковать боялся. Он старался действовать так, чтобы и рыбки наловить, и ноги не замочить. В каждом конкретном случае, признавая наши требования справедливыми, он, однако, не решал их здесь, на месте, сообразуясь со справедливостью, а то и дело ссылался на ГУЛАГ или на ведомство Владимирова (внутренняя безопасность), обещая связаться с ними и добиться удовлетворения этих требований. В 5-м и 6-м отделениях ему удалось уговорить лагерников поверить его обещаниям. Но мы стояли на своем и отказывались верить ему на слово. И после тщетных обращений к нашему благоразумию ему стало очевидно, что если гора не идет к Магомету, то Магомету нужно идти к горе.
— Хорошо, — сказал он, поняв наконец, что другого выхода у него нет, — пусть будет по-вашему. Не станем мелочиться. Чтобы доказать вам, что наши слова с делом не расходятся, мы пойдем на превышение своих полномочий и в ближайшие дни дадим вам новые инструкции, скрепленные моей и членов комиссии подписями.
Сообщив нам такое свое решение, Кузнецов было предложил считать дискуссию по данному вопросу законченной. Но мы были себе на уме и с этим предложением не согласились.
— Погодите, гражданин председатель, — остановил Кузнецова Недоростков. — Подводить черту еще рано. Любая инструкция только тогда будет чего-нибудь стоить, когда она полностью исключит возможность возрождения того произвола, который творился здесь, в Горлаге. Что толку нам от всех тех благ, которые вы предоставляете, если и дальше наша жизнь будет всецело зависеть от капризов начальника лагеря и если впредь начальник лагеря при помощи надзирателей и взятых к себе на службу подонков будет бить нас, издеваться над нами... <...> ...Считаем необходимым, чтобы впредь заключенных в штат придурков зачислял не начальник, а мы сами. И это должно быть ясно оговорено в инструкции.
— То есть, — перебил Недоросткова Кузнецов, — вы настаиваете, чтобы мы разрешили вам самоуправление?
— Не совсем так, — возразил Недоростков. — Мы лишнего не требуем. Мы добиваемся самой малости. Всего ничего. Только лишить администрацию лагеря возможности творить здесь произвол, используя для этого разного рода подонков, как это было раньше. Это законное требование.
— С вашей точки зрения, может быть, — заметил Кузнецов. И тут же выпрямился и повернулся к Вавилову: — А что по этому поводу скажет нам прокурор?
Вавилов ответил не сразу. Он не ожидал, что Кузнецов так лукаво переложит свою ношу на его плечи, и, услышав этот вопрос, сразу от возмущения побагровел, но тотчас справился с собой и, подвигнутый желанием преподнести Кузнецову взаимный сюрприз, заявил, что в правовом отношении это наше требование вполне соответствует намерениям комиссии пресечь произвол и создать для нас условия содержания более терпимые, чем прежде.
— Я думаю, — сказал Вавилов, — что, назначив себе начальников из своих людей, они потом будут стараться их не подвести, и порядка в лагере станет больше.
Мнение Вавилова показалось членам комиссии логичным. Сообразуясь с ним, все они высказались за удовлетворение нашего требования. Особенно категоричен был Михайлов. В своих выводах он и мысли не допускал о какой-нибудь альтернативе этому мнению. И Кузнецову ничего не оставалось, как при плохом настроении изобразить на своем лице довольную улыбку.
— Вот видите?! — воскликнул он. — Какая хорошая комиссия к вам прибыла. Что бы вы ни заявили — вам ни в чем нет отказа.
Но восклицание это эхом не отозвалось. Мы были тертыми калачами и предпочитали цыплят по осени считать.
— Не спешите, гражданин председатель, хвалить себя, — одернул Кузнецова Кляченко. — При вашем положении быть до конца справедливыми непросто, тем более что наши дальнейшие требования могут задеть честь вашего мундира.
— Любопытно, — оживился генерал Сироткин. — Что же это за требования?
— Вполне законные и справедливые, — пояснил Кляченко и положил несколько сложенных вместе листов наших требований на стол перед Кузнецовым. — Вот эти требования, — сказал он. — Всего 18 пунктов, на которые мы желаем получить положительный ответ.
Кузнецов тут же взялся читать. Члены комиссии, подавшись лицом вперед, тоже вперили глаза в бумагу. Мы молча наблюдали за ними, пытаясь увидеть на их лицах отражение тех чувств, какие у них вызывало содержание тетради. Нам хотелось, чтобы нас по-человечески правильно поняли. Но лица были хмурыми и жесткими. Членам комиссии явно не нравился читаемый ими текст. Он раздражал их. <...> Перевернув очередной лист, Кузнецов вдруг зло оттолкнул от себя бумаги и резко вскинул глаза.
— Это какая-то галиматья, — громко возмутился он. — Какая-то противоречащая общепринятым понятиям несуразица. Это черт знает что такое! Взять хотя бы ваш первый пункт. — Кузнецов открыл нужную страницу и забарабанил по ней пальцами. — Вот здесь вы пишете... читаю: «... лучшим выражением политики мира является полная реабилитация жертв войны». О чем это вы? — Он оторвал от тетради глаза и, испытывающе глядя на нас, продолжил: — Жертвы войны — это герои, которые, защищая Родину, положили свою голову или остались инвалидами. Какие могут быть еще жертвы войны? — Сверля нас пытливым взглядом, он недоуменно передернул плечами. Но его тут же осек Гальчинский:
— А еще, гражданин председатель, солдаты 41 года — герои, которые, сражаясь до последнего патрона, не позволили фашистским генералам осуществить блицкриг, но которые из-за просчетов бездарных командиров, таких, как маршал Кулик и другие, попали в окружение, а потом в плен и теперь содержатся здесь, в лагере, и терпят за чьи-то чужие просчеты. Они — не мертвые и не калеки. Они — живые. Но у всех у них жизнь искалечена войной. Они жертвы войны. Не случись война и не попади они в плен, никто из них не сидел бы здесь.
— Их посадили не за плен, — возразил Кузнецов. — К вашему сведению, в нашем кодексе нет статьи, по которой можно было бы судить за сдачу в плен.
— О да! — воскликнул Гальчинский. — Согласно приказу Сталина, который зачитывали в армии, «русские в плен не сдаются». Пленных нет. Зачем же статья в кодексе?! А пять миллионов солдат и офицеров, которые не решились стать самоубийцами и так или иначе оказались в плену, где они, как мухи, умирали из-за тех, кто заверял, что врага будем бить на его территории и победим «малой кровью», «могучим ударом», — это не пленные, это — изменники Родины?!
— Опять вы не то говорите, — прервал Гальчинского Кузнецов. — Поголовно всех пленных мы изменниками не считаем. Мы судили только тех, кто сотрудничал с немцами. И здесь содержатся не жертвы войны, как вы пишете, а скорее жертвы своих преступных действий, совершенных ими во время войны против народа и Советского государства.
Гальчинский поднял голову и вперил в Кузнецова взгляд.
— Тогда скажите нам, — спросил он его, — почему здесь, в лагере, на одного сотрудничавшего приходится десять ни в чем не повинных горемык?
— Это ваши досужие вымыслы, — резюмировал Кузнецов.
— Нет, гражданин председатель, это не вымыслы, — возразил Гальчинский. — Это истина. И в этом нетрудно убедиться. Откройте дела бывших военнопленных и вы увидите, что почти все эти дела — чистейшей воды липа: вы не найдете в них уличающих фактов, ни сколько-нибудь обоснованных обвинений. Там одни тенденциозные измышления, сшитые белыми нитками. И мы просим отнестись к нашим требованиям с полной серьезностью. Мы требуем пересмотреть эти дела и за отсутствием состава преступления реабилитировать всех, чья вина не подтверждается фактами. И не только тех, которые ни с кем не сотрудничали, но и тех, которые, сотрудничая, не причинили своими действиями никакого ущерба ни людям, ни государству, чье сотрудничество было вынужденным и, в сущности, являлось фиктивным.
— Любое сотрудничество с врагом — это прямая измена Родине, — констатировал Вавилов.
Гальчинский тотчас перевел взгляд на Вавилова.
— Гражданин зам. генерального прокурора, — обратился он к нему, — пересматривая такого рода дела, вы не должны забывать, что проступок солдата или отдельного командира является всего лишь следствием той большой измены, в результате которой они оказались в плену или на оккупированной территории, в связи с чем были вынуждены терпеть такое, что не всякому человеку под силу вытерпеть.
— Вы говорите бездоказательные глупости, — оборвал Гальчинского Вавилов.
— Бездоказательные глупости?! — вскинулся Гальчинский и тут же протянул Вавилову папку с показаниями Шилова, Силина, Ершова и других бывших военных.
— Вот вам свидетельство компетентных людей,— сказал он, отдавая папку. И, покосившись на Кузнецова, добавил:
— Не останься армия без командиров, а заводы без инженеров, враг не смог бы продвинуться дальше старой западной границы.
Вавилов перелистал отданные ему Гальчинским показания и неожиданно спокойно, словно что-то хорошее шевельнулось в его душе, сказал:
— Хорошо. Генеральная и военная прокуратуры пересмотрят ваши дела. Но было бы лучше, чтобы каждый из вас подал индивидуальную жалобу.
— Мы согласны, — ответил Гальчинский и, повернувшись к лагерникам, предложил им отдать комиссии жалобы. И люди один за другим стали подходить к столу и класть жалобы. Одни это делали молча, другие кидали короткие реплики.
— Если бы империалисты знали, что вы здесь творите, — они всем вам повесили бы ордена, — сказал Шебалков.
— Нельзя более скомпрометировать идеи Ленина, как это сделали вы, — прокричал Смирнов.
— По сравнению с вами наш Сметона — ангел безгрешный, — выпалил Леникас.
— Подумайте, кого вы наказываете! Посадив нас, вы наказываете наших детей! И дети вас не забудут! — возмутился Павлов.
— Вы хорошо работаете. Враги социализма могут быть вами довольны, — бросил Нагуло.
Членам комиссии было неприятно слышать эти реплики. Но они на них не отвечали. Они сделали вид, будто ничего не видят и не слышат. И, пропуская их мимо ушей, словно пустые, ничего не значащие фразы, в прежнем тоне продолжали с нами разговор.
Согласившись пересмотреть дела, Вавилов тут же предупредил нас, что ими при пересмотре будет учитываться не только наше прошлое, но и то, что мы собой представляем теперь и как ведем себя.
— Вам не по душе наше поведение, вы, наверно, хотели бы видеть нас другими? — выразил догадку Стригин.
— Не поведение... — возразил Вавилов. — Нам не нравится ваше нежелание идти в ногу со всем народом и в этом нам действительно хотелось бы видеть вас другими. Или мы здесь чего-то не понимаем? — Он пододвинул к себе наши бумаги и, отыскав соответствующий лист, ткнул в него пальцем. — Вот здесь, во втором пункте своих требований, вы пишете: «...мы считаем несовместимым называться последователями Ленина и содержать в заключении старых большевиков, которые вместе с Лениным совершили революцию и создали Советское государство».
Прочитав этот абзац, Вавилов оттолкнул в сторону тетрадь и впился в нас глазами.
— Что это? — повысил он голос. — Политическая слепота или это ваше официальное заявление, сделанное в защиту троцкистско-зиновьевско-бухаринского отребья, которое по воле народа мы содержим здесь, в лагерях?! Как прикажете понимать вас?
От таких слов нас всех передернуло. Но более всех они задели Кляченко. Он вздрогнул, покраснел, будто от обидной пощечины, и, энергично вскинув голову, уставился на Вавилова.
— Отребье, говорите?! — возмущенно выдохнул он ему в лицо. И тут же, дав свободу своему негодованию, продолжил: — Это шесть из семи членов Политбюро, оставшихся после Ленина, были отребьем? А вся партия?! Из тех 400 тысяч, которые состояли в партии на время XII съезда, к 1939 году на свободе осталось не более пяти тысяч! И единицы остались из 240 тысяч, что были в партии на время XI съезда. И все эти сотни тысяч репрессированных вами членов ленинской партии вы называете отребьем, а себя коммунистами?!
— Что же в этом возмутительного? — перебил Кляченко Михайлов. — История знает немало примеров, когда сторонники какой-нибудь идеи впоследствии становились ее ренегатами, например Каутский и лидеры II Интернационала.
Кляченко резко обернулся к Михайлову.
— Ваш пример некстати, — заявил он ему. — Каутский и лидеры II Интернационала — это крохотная группа, порвавшая с подавляющим большинством. Но чтобы почти вся партия, целиком... таких примеров история не знает. В данном случае уместно назвать ренегатами оставшихся, которые не разделили общей участи партии и теперь в страхе за собственное благополучие возводят небылицы на бывших своих товарищей.
— Вы заблуждаетесь! — вскрикнул Михайлов. — Вам подсунули вымышленные цифры, и рассуждения ваши более чем клеветнические. Партию никто не трогал. Ленинская партия жива и ее преступно отождествлять с той жалкой группой ренегатов, которые, сколотив правотроцкистский блок, стали нашими врагами и, как таковые, были репрессированы.
Кляченко недоуменно пожал плечами.
— Я удивляюсь вам. Неужели вы никогда не задумывались над тем, как это могло случиться, что вчерашние вожди партии, соратники Ленина, сразу же после его смерти вдруг ни с того ни с сего сделались врагами?!
— Они сами это признали, — ответил Михайлов. — Я читал материалы судебного процесса, и не верить этим материалам нет никаких оснований.
— Тогда прошу вас ознакомиться вот с этими материалами. — Кляченко раскрыл папку и, вытащив из нее показания Кричмана, Ананьева и других, подал их Михайлову и тут же пояснил: — Это свидетельства бывших ответственных работников НКВД из аппарата Ежова, которые непосредственно фабриковали те материалы, что вы читали.
— Интересно, — отозвался Михайлов, принимая бумаги.
— А с цифрами, — продолжал Кляченко, — вам придется самим разобраться. Обратитесь в партархив и, если обнаружится, что эти наши цифры не вражеский вымысел, то советую, чем попусту на зеркало сердиться — не лучше ль на себя оборотиться и спросить себя: «Кто вы и с кем?» И при затруднении с ответом вынести этот вопрос на обсуждение в ЦК.
— Вы, стало быть, как я вас понял, себя преступниками не считаете и требуете реабилитации всех бывших оппозиционеров? — высказал догадку Киселев.
— Вы правильно нас поняли, — пояснил Кляченко. — В нашем требовании ясно сказано, что репрессии, которые были применены против старой партии, мы рассматриваем как контрреволюционную акцию, совершенную с преднамеренной целью.
— Какой именно целью? — Подался вперед к Кляченко Кузнецов.
— А вот вы в этом и разберитесь, кому и почему мешала старая партия, — ответил Кляченко. — Я только осмелюсь заметить, что тот социализм, который у нас строится, очень слабо согласуется с человечностью. Возьмите, например, такие параллели: добровольная кооперация в сельском хозяйстве и насильственная стопроцентная коллективизация; разумное соблюдение экономических законов развития общества и грубый волюнтаризм; свобода слова и совести и сотни тысяч осужденных за антисоветскую агитацию; народная власть и всенародный страх перед властью.
— Какой абсурд! — воскликнув, прервал Кляченко генерал Сироткин.
— Вы почему-то все представляете в каком-то перевернутом виде, и обязательно черном. А сами, между прочим, называя себя ленинцами, ратуете за реабилитацию националистов, которых Ленин считал нашими злейшими врагами.
— Что поделать, гражданин генерал, — развел руками Недоростков. — Наши представления являются отражением объективной действительности. И очень жаль, что вы никак не можете понять этот постулат материалистической философии, руководствуясь которым мы требуем реабилитировать не только националистов, но и заключенных любых воззрений, которые не преступили закон действием и тем самым не имеют в объективной действительности улик, неоспоримо подтверждающих предъявленное им обвинение. Вопреки вам мы считаем абсурдом судить человека только за то, что он думает не так, как думают представители власти.
— И особенно, — уточнил Женя Грицяк, — того человека, который до своего ареста не слышал ничего путного об этих арестовавших его властях и доподлинно не знал, ни какому Богу они молятся, ни чего добиваются.
Грицяк вызывающе посмотрел на членов комиссии и, видимо решив, что они его слов не понимают, тут же принялся доказывать им свое алиби.
— Я родом из Станиславщины, — пояснял он комиссии. — До 39 року у нас хозяйнувалы поляки, которые считали нас людьми другого сорту. Це оскорбляло наше национальное чувство. Мы не могли с цим помириться. Нам хотелось жить, як и всим людям, быть равными с другими народами, бачити свою Украину самостийной и цветущей, и ОУН стала выразителем наших мрий. Мы встали пид ее прапор, бажая счастья свойму народу. Це разве преступление?
— Ваши выступления против панской Польши никто вам в вину не ставит, — возразил Кузнецов.
Грицяк бросил на Кузнецова пытливый взгляд и нахмурился.
— Воно-то вроде так, — сказал он после секундной паузы, — да только не зовсим. Разом з выступлениями против поляков развивалась и крепла ОУН и лучшие сыны Западной Украины становились националистами, що вы потом и поставили им в вину, за що потом и приняли их за своих злейших врагов, якими и теперь считаете. Хотя не можете не розуметь, що воны врагами стали исходя из самых благородных намерений. Да только вы це в расчет не взялы. Що вам до их почуття? Вы опричь себя ничего не слышите и рубите под корень все, що не фактычно кривое, а выглядат таким, с вашей точки зрения. Вы пришли в чужой дом со своими порядками, а когда хозяева запротэстовалы, вы выкинули их вон з уласной хаты. И це считаете справедливым?
Выслушав Грицяка, Кузнецов укоризненно качнул головой.
— Вы напрасно возмущаетесь, — заметил он Грицяку. — В своей судьбе вам некого винить, кроме самих себя. Вас подвела иллюзорная идея, порочное желание создать самостийную Украину. Одолеваемые этой идеей, фанатично предавшись ей, вы потеряли голову и не увидели разницы между нами и польскими панами. Вам изменило чувство реальности. И когда трудящиеся Западной Украины — подлинные хозяева своей земли — встречали нас хлебом-солью как освободителей, вы, как вурдалаки, подались в лес, организовали банды и, в сущности, выступили против того народа, защитниками которого мнили себя. Вы стали вроде оборотней, стали мешать народу строить новую жизнь. Вы деградировали. И нам, чтобы обезвредить вас, ничего не оставалось, как, выражаясь вашими словами, выкинуть вас «вон з уласной хаты». Такая репрессивная мера, принятая нами против вас, была, безусловно, жестокой, но справедливой. Вас осудили не за благородные намерения, а за преступные действия, совершенные против украинского народа. Жаль, что вы этого никак не хотите понять.
— Почему не можем?! — воскликнул Грицяк. — Мы не диты. Мы все можем. Будь це сказанное вами правдой, мы, наверное, поняли бы. Ничего здесь мудреного нет: натворил делов — отвечай. Но як нам розуметь, колы вот здесь в лагере на одного, который був в лесу, приходится двадцать таких, которые ни в лесу не булы, ни к ОУН ниякого отношения не имели? А кто нам скажет, за що сидят ция, которые бежали в лис не для борьбы с народом, як вы кажете, не бандитизмом заниматься, а из страху, щоб не попасть вам под горячую руку и не загреметь в Сибирь? Которые, будучи в лесу, сидели тихо в норах, пережидая лиху годыну? И большинство оуновцев вины за собой не мае, опричь своих поглядов. Скажите, вы назовете преступником того мужика, который, не будучи знакомый з вами, но, зная от людей, що вы чоловик поганый, старается держаться от вас подальше, а при зустричи на дорозе предпочитает шмыгануть от вас в лис? Конечно, нет. Разумному человеку такое и в голову не прийде, разумный чоловик только усмехнется такому пустому страху. А як же вы поступили? Як нам все це понять? Выходит, вы за народ только на словах, а на самом деле...
— Вы пользуетесь неверными данными, — возразил Кузнецов. — Возможно, кое-какие ошибки и были допущены, кто из нас без греха, но чтобы в таком количестве...
— Що тут ворожиты, — стоял на своем Грицяк. — Вы — полномочные власти, вам и карты в руки. И колы вы взаправду намерены восстановить справедливость, то вам не слид оспаривать це наше требование. Воно законне. Мы просимо освободить людей, которые булы осуждены за участие в националистычных движениях, но которые никого не убивалы, не грабилы, не учинялы диверсий чи якого вредительства. А за погляды — пробачьте. Нам других негде було взяты. Мы не являлись гражданами СССР, советских университетов не кончали, марксизму-ленинизму не обучались.
— Мы исправим свои ошибки, — пообещал Кузнецов.
— Однако, — уточнил обещание Кузнецова Вавилов, — мы не станем пересматривать дела тех националистов, которые хотя и не совершили уголовного преступления, но будут продолжать упорствовать в своих прежних взглядах.
— Опьять за гричку гроши! — выкрикнул Грицяк — Мы, як вы разумеете, не повинны в цих взглядах.
— Сочувствуем вам, — ответил Вавилов. — Однако это обстоятельство не делает
ваши взгляды, а следовательно, и вас самих менее враждебными.
Грицяк судорожно подался лицом к Вавилову и принялся доказывать ему абсурдность
такого правопорядка, при котором любое инакомыслие считается преступлением, но
вскоре, увидев загоревшиеся в глазах Вавилова злые огоньки, понял, что он
напрасно расточает перед ним свое красноречие и обратился к нам, своим
товарищам.
— Люди добрые, що ж получается?! Выходит, что в угоду тьому порядку, от якого всим нам тошно, мы должны заявить, що булы не правы, а це буде означать, що мы не добиваемось восстановления справедливости, а, як преступники, просимо для сэбе снисхождения. Боны хотят, щоб мы призналы, що невинные люди наказаны правильно, разве только чуточку жестоко. У нас, бачите, поганые мысли в голови... — И снова повернулся к Вавилову. — Це произвол! — заявил он, вызывающе глядя Вавилову в лицо. И тут же, переведя дыхание, хотел было еще что-то сказать, но его на полуслове остановил Михайлов.
— Как вы разговариваете? — грубо одернул Грицяка Михайлов.
Но когда Грицяк прикусил язык, он тотчас примирительно заметил ему:
— Нельзя так. Эмоции здесь неуместны. Ваши требования сложнее, чем вы думаете, и на повышенных тонах их не решить. Тем более что комиссия не все может. Мы вправе решать только в пределах установленного законом порядка.
— Чем же наши требования не согласуются с этим порядком? — спросил Мелень, щуря глаза и морща лоб.
Михайлов на минуту задумался, а потом пристально посмотрел на нас и выпрямился.
— Рассуждая чисто по-человечески, вы, безусловно, правы, — ответил он. — Но, исходя из классовых позиций, сообразуясь с интересами безопасности нашего государства, этого сказать нельзя. Все не так просто. — И снова, прищурив глаза, обвел нас пристальным взглядом. — Даже очень непросто, — заключил он после небольшой паузы. И тут же принялся объяснять:
— Вы подумайте сами, когда вы говорите об ошибках, допущенных в отношении некоторых из вас, и требуете реабилитировать ошибочно осужденных — это ваше требование мы не оспариваем. Оно будет удовлетворено. Прокуратура и Верховный суд пересмотрят дела. Но когда вы требуете признать ошибочно осужденными тех из вас, которые не разделяют наших взглядов и, следовательно, являются нашими идейными противниками, — это уже ария из другой оперы. Такое требование правоохранительные органы удовлетворить не могут. Оно не согласуется с осуществляемой у нас диктатурой пролетариата, которую эти органы призваны укреплять, но не реформировать. МГБ и прокуратура не вправе отменять существующие законы, чего вы, в сущности, добиваетесь. Это не их правовая функция, — убеждал нас Михайлов. — Единственное, что может сделать наша комиссия, чтобы удовлетворить ваши требования, — это, если на то будет ваше согласие, передать их ЦК. Ничего другого предложить не можем, разве что посоветовать быть благоразумными и хорошо подумать над тем, что сказал вам зам. генерального прокурора. Он не зла вам желал.
Выслушав Михайлова, мы поняли, что от этой, присланной Берией, комиссии более ждать нечего. Михайлов недвусмысленно дал понять, что полномочия комиссии строго ограничены и она сверх этих полномочий ничего решать не станет. Продолжать дальше вести с ней дискуссию не имело смысла. <...> Мы не стали рисковать и решили, что ЦК, получив наши требования из рук своих членов, непосредственно участвовавших в переговорах с нами, и без того будет вынужден вмешаться в дела МГБ, тем более что капитулировать мы не собирались. Наше согласие с предложением Михайлова было своего рода тактическим маневром. Заимев в руках синицу, мы все же не выпускали из виду журавля. <...> И когда Кузнецов, подводя черту под переговорами, потребовал прекратить «волынку» и впредь выходить на работу, мы возражать не стали.
— Вот и хорошо, — резюмировал генерал Сироткин. И тут же, ткнув пальцем в
развевавшийся над первым бараком черный флаг, выкрикнул:
— Да снимите вы этот флаг! Он всю душу нам выел.
Переговоры были закончены. Члены комиссии, а вслед за ними и наша депутация встали из-за стола.
— Прошу вас, — поднявшись, сказал Кузнецов, — информировать ваших товарищей о нашем разговоре, ничего не убавлять и не прибавлять к тому, что было сказано.
— У нас к вам такая же просьба, — ответил я Кузнецову. — Докладывая о нас своему руководству, передайте, пожалуйста, что, если оно в течение месяца сообразно с законом не удовлетворит наши требования, мы более молчать не будем, предпочтем смерть рабскому прозябанию.
— Это что — угроза? — спросил меня Вавилов.
— Это вопль отчаяния.
Вавилов пренебрежительно махнул рукой и первым пошел из лагеря. Не стали более задерживаться и остальные члены комиссии. Последним, одарив нас сочувственным взглядом, ушел Киселев. Сразу после его ухода я вскочил на стол и, попросив лагерников подойти поближе, проинформировал их о содержании и результатах наших переговоров с московской комиссией. Выслушали меня молча. Люди отнеслись к услышанному как к чему-то должному. Никто не высказал ни одобрения, ни осуждения.
12 июня состоялся развод. 4-е и 5-е мужские отделения Горлага и 6-е (женское) вышли на работу. Но не все в Норильске поступили так же, как мы. В 1-м и 3-м отделениях Горлага, а также 9-м Норильлага заключенные требовали открытого суда над убийцами и произвольщиками и до удовлетворения этого требования отказались вести переговоры с данной бериевской комиссией. Ни уговоры, ни обещания не помогли. Они стояли на своем. Над этими зонами по-прежнему развевались черные флаги. Некоторые в наших отделениях восхищались таким упорством и самобичевали себя за соглашательство. Но большинство осуждало это упорство. Большинству оно казалось неоправданным и, хуже того, излишне рискованным; большинство считало, что абсурдно требовать, чтобы ворон ворону глаз выклевал, что в данной конкретной обстановке не было альтернативы тому решению, которое мы приняли, руководствуясь трезвым расчетом. Однако вскоре исключительной важности новость взбудоражила лагерь, и многие из этого большинства заговорили иначе. Такой новостью было известие о забастовке в Воркуте, полученное днем 13 июня. Из достоверного источника нам вдруг стало известно, что заключенные Речлага отказались выходить на работу и повиноваться лагерной администрации, возглавляемой генералом Деревянко, и что туда для переговоров с ними вылетели Генеральный прокурор Руденко и начальник ГУЛАГа генерал-лейтенант Долгих. А несколькими часами позже из того же источника мы узнали о волнениях в Кенгире. Радость наша была неописуемой. Работяг словно подменили. Они решили, что это начало конца их мучений. И, полагая, что им теперь и сам черт не страшен, прекратили работу. Умолкли отбойные молотки, застыли кран-деррики, перестали вращаться бетономешалки. В стихийном порыве люди душой потянулись к тем своим товарищам, которые продолжали забастовку. Они рвались что-то делать, жаждали как-то проявить себя, чтобы в МГБ поняли, что все мы здесь, в лагерях, заодно и лозунг у нас один: «Свобода или смерть!» Такое же рвение начали высказывать и некоторые авторитетные лагерники. Многие из тех, кто еще давеча утром не видел альтернативы нашему решению, теперь считали его штрейкбрехерским, требовали отказаться от него и снова поднять черный флаг. Громче прежнего повысили голоса сторонники решительных действий. Игнорируя всякую реальность, они пошли еще дальше: точно щука, попавшая в реку, почувствовали себя в родной стихии и, солидарно взаимодействуя с этой стихией, призывали заключенных готовиться к прорыву зоны.
— С такими людьми, как вы, — кричал Жиленко, обращаясь к работягам, — мы не только Норильск, Красноярск возьмем!
— Пусть мы погибнем все, — вторил Жиленко Касьянов. — Но мы высечем искру, из которой возгорится пламя. Русские люди ждут нашего выступления!
При других обстоятельствах такие речи посчитали бы провокационными, но в тот день к ним отнеслись с уважением: они были созвучны царившему в оцеплении настроению. После этих слов у людей загорались глаза, появлялась безумная решимость; люди начали осознавать себя людьми и, движимые чувством долга, приветствовали каждую громкую фразу. До безумия оставался один шаг. Но этот шаг сделан не был. Против этого шага решительно выступил забастовочный комитет. Употребив все свое влияние, комитет удержал находившихся в оцеплении лагерников в разумных рамках. Заключенные не решились действовать вопреки мнению товарищей из комитета, которые, как это было им известно, не гнулись и не ломались в самое трудное время, которые не единожды делили с ними штрафную горбушку. Они верили этим товарищам и в конце концов после бурных митингов, вняв их доброму совету, разошлись по рабочим объектам. По-прежнему загрохотали молотки, заскрипели краны, заскрежетали бетономешалки. Оставив свои амбиции, люди вновь принялись долбить вечную мерзлоту, катать тачки, бетонировать котлованы, класть в стену кирпичи. Гул страстей сменился привычным гулом стройки. И впредь в продолжение всего времени, оставшегося до конца рабочего дня, этот привычный гул не прерывался. Люди вели себя так, словно их ничто другое не беспокоило, кроме как вкалывать на начальника. Пребывая на виду у эмгэбистов, они как бы старались убедить их в своей покорности им. Глядя на них, было трудно предположить, что под маской этой покорности тлела искра нового бунта. Они выглядели раскаявшимися грешниками, и, видя их такими, эмгэбисты были с ними предупредительно-вежливыми. А между тем почти каждого из них не переставало мучить сомнение: так ли он поступает, как должен поступать в конкретной ситуации, и каждый с готовностью ждал команды «Прекратить работу!». Но команды такой не последовало.
Люди недоумевали. Поведение забастовочного комитета многим показалось подозрительным, и по возвращении в жилую зону страсти вскипели с новой силой. Особенно усердствовали группы Русинова, Жиленко и Аношкина, настаивавшие на возобновлении забастовки. Снова наше единство оказалось под угрозой, и снова членам комитета пришлось приложить немалое усилие, чтобы уговорить лагерников соблюдать достигнутую договоренность и ждать, что ответит комиссия в течение взаимно оговоренного времени. Лагерники еще раз поверили своему комитету, перестали митинговать, а назавтра, 14 июня, вышли на работу. Но и в зоне, и на работе, соблюдая режим, они чутко прислушивались к новостям, которые доходили до них из-за проволочного ограждения, и недоумевали, что в этих новостях не было никаких сведений о московской комиссии, будто ее совсем не было в Норильске. Но она была и выжидала, рассчитывая, что выход на работу трех отделений вызовет брожение среди продолжающих забастовку и те, в конце концов, последуют примеру этих отделений. Но шли дни, а над бастующими 1-м и 3-м отделениями как развевались черные флаги, так и продолжали развеваться. Наш выход на работу не стал примером для подражания. Бастующие иначе, чем мы, понимали сложившуюся обстановку и, оценивая ее как благоприятную, не соглашались ни на какой компромисс, пока полностью не будут удовлетворены их требования.
Ни требования чекистов, ни угрозы на них не действовали. Они отказались слушать
и то и другое, требуя, чтобы комиссия не на словах, а на деле проявила свою
готовность содействовать восстановлению законной справедливости, и были в этом
требовании непоколебимы. Они считали, что если не добиться своего теперь, то
потом добиваться будет поздно — бериевцы не простят этого выступления. И они
добивались, понимая, что отступать некуда: все мосты позади были сожжены. То же
самое понимали и мы, лагерники трех отделений, вышедшие на работу. У нас тоже не
было пути к отступлению и в случае отказа в удовлетворении наших требований нам
ничего не останется, как снова поднять черные флаги, дабы не оказаться легкой
добычей бериевских садистов. Все мы в Норильске знали, что нас ждет впереди,
если поступимся своими требованиями. Мы мыслили идентично. У всех была одна
задача. Мы только по-разному ее решали, чего комиссия сразу не заметила и
принялась, подобно хитрой лисе, прельщать всякую отбившуюся от стаи глупую
ворону красивыми словами в расчете воспользоваться ее сыром. Но когда со
временем ей стало очевидно, что ворона стаи не теряет и не так уж глупа, чтобы
прельститься словами, не подтвержденными делом, решила исподтишка проявить свой
хищный нрав и посмотреть, как станет себя вести стая, почуяв опасность. 17 июня
комиссия прибыла в 3-е отделение и, отклонив претензии заключенных, заявила им,
что если они не возьмутся за ум и не прекратят саботаж, то у нее найдутся
средства, чтобы призвать их к порядку. И в подтверждение своих слов тут же
произвела психическую атаку, во время которой были убиты двое заключенных. Это
были первые выстрелы, прозвучавшие в Норильске во время пребывания здесь
полномочной комиссии. Услышав их, люди поначалу пришли в замешательство: никому
не верилось, что они произведены с ведома или по указанию комиссии. Всем
казалось, что это роковая случайность — психическая несдержанность какого-то
фанатика. Пронзившая их боль взывала к ответным действиям. Замешательство вскоре
сменилось возмущением, а затем протестом, и, надрывая душу, заревел гудок нашей
компрессорной. От этого гудка у людей закипала кровь, злобой загорались глаза и
сами по себе руки сжимались в кулаки. А когда гудок умолк, люди принялись
кричать, потрясая кулаками в сторону проволочного ограждения и требуя
московскую комиссию. Но комиссия не появилась. Она решила дать нам понять, что
впредь не станет считаться с нами, пока мы не образумимся и не обратимся к ней
по-хорошему, как положено. Дескать, кто ее не слушается — к тому и она спиной. И
напрасно протестовать против убийства, случившегося в лагере, который ее не
признает, поскольку это убийство совершено там, где развевается черный флаг,
символизирующий непризнание существующей власти. <...> Нас одолевало сомнение.
И, мучимые им, мы решили день-два подождать прихода комиссии. Нам хотелось
услышать ее объяснения и понять, что значило это убийство. Мы считали, что она
не может не прийти.
Но, к нашему огорчению, и назавтра, и на послезавтра комиссия не пришла.
Вспугнув добычу, она затаилась и ко всему присматривалась, пытаясь из всех
отделений выбрать себе жертву по зубам — менее стойкую, более самоуспокоенную и
вместе с тем отвечающую ее прихотливому вкусу. Таким отделением ей показалось
любое из тех трех, которые, поверив ей на слово, опустили флаги и, соблюдая
режим, терпеливо ждали ответа на свои, врученные ей требования. Эти отделения
ее излишне не беспокоили. Они вели себя относительно сдержанно даже после
злосчастных выстрелов. Особенно сдержанным и спокойным выглядело 5-е отделение,
в связи с чем бериевская комиссия посчитала это отделение самым нестойким среди
всех других в Горлаге. Она не поняла, что эти сдержанность и спокойствие были
результатом высокой организованности лагерников и их уверенности в себе и что в
этом отношении 5-е отделение было крепче других. Силу она приняла за слабость. И
в предчувствии легкой добычи более не стала таиться и выжидать. Жертва была
определена.
Утром 22 июня вышедшим на развод лагерникам 5-го отделения объявили, что развод отменяется и те из них, чьи фамилии будут названы, обязаны сдать числящуюся за ними постель и собраться на этап, и тут же зачитали 700 фамилий. Объявление это было встречено громким гулом возмущения и криками протеста. Люди отказывались идти на этап до удовлетворения их требований. Но, узнав, что этапируют всего лишь в другое отделение Горлага, возмущаться и кричать перестали. Такой этап им показался обычным перемещением заключенных как рабочей силы с одного участка на другой. Этапируемые оставались здесь, в Норильске, а следовательно, вместе со своими товарищами, требующими восстановления справедливости. Такой этап не вызывал опасений. И когда конвой привел нас из 4-го отделения в рабочее оцепление Горстроя, откуда 5-е отделение было хорошо видно и слышно, там уже стояла тишина и на разводной линейке не было ни души. Единственной аномалией выглядела крыша кирпичного завода, густо наполненная сидящими на ней людьми, которых почему-то после ночной смены не сняли с объекта. Их было 75 человек, и все они сидели на крыше лицом к своей зоне, от которой они были отделены двумя запретными полосами со сторожевыми вышками между ними. Они одни в обозримом пространстве обращали на себя внимание. Увидев их, мы всполошились и сразу по прибытии в оцепление поспешили связаться с ними. Но суть оказалась не в них. Из их ответа мы узнали, что они взобрались на крышу вовсе не для того, чтобы привлечь к себе внимание, а чтобы проститься со своими товарищами, уходящими на этап. И тут же, размахивая флажками соответственно морской азбуке, сообщили нам о решении лагерников не усугублять обстановку из-за данного этапа и о мотивах такого решения. Прочитав это сообщение, мы опустили свои флажки. Нам нечего было сказать ни за, ни против. Для нас этот этап явился полной неожиданностью. Нужно было какое-то время, чтобы осмыслить и понять, зачем и кому он понадобился в конкретной ситуации. А времени такого уже не было. Где-то в половине одиннадцатого к воротам 5-го отделения прибыл конвой, а спустя несколько минут на разводную линейку вышли этапники и с ними лагерники отделения. Встали сидевшие на крыше кирпичного завода и сбежались к запретной зоне работяги оцепления Горстроя. Впервые на этап уходили не товарищи по несчастью, а товарищи по борьбе. И это новое качество этапников придавало нашим проводам особую значимость, которую так или иначе сознавали и провожавшие, и уходившие. Все одинаково переживали, нервничали, ждали. И когда наконец распахнулись ворота и из вахтового балка вышел начальник конвоя с пачкой формуляров в руках, толпа в лагере обеспокоено задвигалась, а мы в зоне оцепления напрягли внимание, словно боялись упустить что-то очень важное. Но все шло обычным порядком. Начальник конвоя вычитывал из формуляров фамилии, и к нему один за другим подходили заключенные, говорили соответственно записям в формуляре свои установочные данные — где родился, кем судился, по какой статье и на какой срок, после чего поступал в распоряжение конвоя, и тот отводил его в сторону и ставил на колени.
Отсчитав подобным образом сто человек, начальник распорядился закрыть ворота, а сам подошел к стоявшей на коленях колонне, поднял ее и, сделав ей предупреждение «Шаг вправо, шаг влево — считается побег, конвой применяет оружие без предупреждения», скомандовал: «Вперед, шагом — марш!» Колонна дрогнула, качнулась, и люди медленно, с трудом отрывая от земли ноги, тронулись в дорогу. И в это время кто-то из провожавших украинцев запел:
Рушив поизд в далеку дорогу
Всколыхнувся, вагоны помчав
И все мы в лагере, на кирпичном заводе и в рабочем оцеплении, подхватили эту песню:
Ты, сумна, на перони стояла,
Ветер чубом твоим колыхав...
Колонна остановилась. Этапники повернулись и энергично замахали руками, прощаясь с нами и выражая свою признательность за теплые проводы. Но долго им стоять не позволили. Окрики конвоиров и лай рвущихся с поводков овчарок тут же вынудили их вернуться в прежнее положение и продолжать путь. Ведомые конвоем, они снова побрели по тундре, а вслед им летела песня, и она не умолкала, пока уводимые не повернули за бывшие неподалеку сопки и не скрылись из виду. Пятое отделение их видеть уже не могло, но у нас в оцеплении Горстроя еще был шанс, и, используя его, десятки людей взобрались на кран-деррики и начали было кричать им и махать руками, да тотчас прикусили языки и разочарованно опустили руки. Там, за сопками, стоял черный «воронок» и при нем была группа эмгэбистов. Колонну вели прямо к «воронку», не доведя, поставили на колени и начали раздергивать — одних уводили в сторону от «воронка», других сажали в «воронок». Действовали быстро и бесцеремонно, будто разбойники. Считанные минуты — и с черным делом было покончено. Укороченная на одну пятерку колонна снова была в пути, следуя к месту назначения за впереди идущим солдатом. За сопками по-прежнему стоял один «воронок». Он не отъезжал, а оставался на месте в ожидании следующей сотни, за которой к воротам 5-го отделения уже подходила группа конвоя. И все тихо и спокойно — ни шума, ни крика, как при разбое в чистом поле. Увиденное потрясло нас. Сомнений более не оставалось. Бериевская комиссия играла с нами в кошки-мышки и, понимая справедливость так, как ее понимают кошки, поступала сообразно своей кошачьей философии. Она смотрела на нас масляными глазами, заигрывала с нами и в то же время, устроив за сопками засаду, готовила нам, мышкам, фатальный финал. Это было ничем не спровоцированное коварство, обнаружив которое, мы тотчас, опередив шедший за следующей сотней конвой, сообщили об увиденном товарищам в 5-е отделение, посоветовав им впредь на этап не выходить — ждать московскую комиссию, а когда она прибудет, то потребовать, чтобы предоставила свидание со взятой в этап сотней. И 5-е отделение приняло наш совет. С разводной линейки лагерников точно ветром сдуло. Они разошлись по баракам. И напрасно администрация лагеря взывала их к благоразумию — никто из них на ее призыв не отозвался. <...> Они стояли на своем, и лагерному начальству ничего не оставалось, как доложить вышестоящей инстанции об этом тупом упорстве заключенных. Однако, доложив, оно из зоны не ушло, не ушел и топтавшийся у ворот конвой, не уезжал из-за сопок и «воронок». Все ждали решения высокой инстанции, какой на то время в Норильске была московская комиссия. Только от ее решения зависела наша дальнейшая судьба. Ею она занималась уже более двух недель, но видимых сдвигов пока не было... <...> Этот отказ срывал все ее планы, и она, узнав о нем, пришла в негодование и незамедлительно прибыла в 5-е отделение, а войдя в зону, принялась прямо у ворот корить заключенных за недостойное поведение и призывать их не слушаться провокаторов, толкающих на выступление против советской власти. Особенно агрессивно вели себя Кузнецов и Вавилов. Попытки наших товарищей как-то урезонить их успеха не имели. Они, точно одержимые, кроме себя, никого более слушать не хотели, в связи с чем им было предложено покинуть зону. Высокому начальству было указано на дверь. Такое предложение было последней каплей. Оно вывело их из себя, и в ответ Кузнецов, с которым недавно вели переговоры, теперь выглядел самодуром, не понимающим нормальной человеческой речи. И, увидев его таким, кто-то, не стерпев, выкрикнул: «Да с кем здесь разговаривать?!» И в сторону московской комиссии полетел камень, за ним второй, третий, а потом сотня... град камней. И комиссия наконец-то приняла предложение зэков. Ссутулившись, втянув голову в плечи, и Кузнецов, и все члены комиссии под громкое улюлюканье бросились бежать за ворота. Отношения были выяснены. И через несколько минут над 5-м отделением взвился черный флаг. Самое нестойкое отделение оказалось крепким орешком. Его просто так, голыми руками, было не покорить. А применять крайние меры против всего лагеря комиссия пока воздерживалась. К тому же у нее был еще в резерве замысел, сообразуясь с которым она рассчитывала как-то без лишнего шума взять реванш. Позорно ретировавшись из зоны, она не убралась восвояси, а реализуя этот свой замысел, тут же приказала под предлогом отправки в лагерь вывести из оцепления и отправить по этапу тех 75 человек, которые с ночной смены оставались на кирпичном заводе. Но и эти 75 лагерников не подчинились ее приказу. Они почуяли опасность и, забаррикадировавшись в остывшей печи, наотрез отказались выходить за ворота. Их отказ комиссия восприняла как дерзкий вызов своей власти, и, более не мудрствуя лукаво, Кузнецов распорядился применить оружие. Повинуясь его приказу, конвой вошел в оцепление, и вскоре послышались выстрелы, а потом и короткие автоматные очереди, после чего все смолкло. Наступила тяжелая, гнетущая тишина, будто эти выстрелы парализовали все живое. Какое-то мгновение мы, как завороженные, смотрели в сторону кирпичного завода, не веря своим ушам. Но вдруг все поняли, и тишину взорвало визгливым криком, и тотчас заревел гудок компрессорной Горстроя. Кричали тысячи людей в 5-м отделении, 6-м (женском) и нашем оцеплении. Этот крик ошеломил комиссию. Такого активного протеста она не ожидала, видимо, рассчитывала, что ее затея на кирпичном заводе пройдет более спокойно. И просчиталась. Услышав наш крик, она вдруг поняла, что допустила лишнее, что резонанс этой затеи может пагубно повлиять на дальнейшее ведение переговоров с бастующими. Ей вдруг стало ясно, что затея с 75 зэками может восстановить против нее весь Горлаг, и, поостерегшись преждевременной конфронтации с нами, она незамедлительно отозвала конвой из оцепления кирпичного завода и тут же уехала, а вскоре после нее уехал из-за сопок и «воронок», так и не дождавшись следующей сотни. Этап, предпринятый с тем, чтобы выдернуть и предать наказанию зачинщиков, был сорван. Однако дорогой ценой. На кирпичном заводе было двое убитых. И в память о крови, пролитой по приказу бериевской комиссии, лагерники 5-го отделения опустили флаг и тут же подняли его вновь, но теперь уже со вшитой во всю длину флага красной полосой. <...> Отныне мы отказывались иметь дело с комиссией, повинной в пролитой крови, и вторично объявляли забастовку, требуя удовлетворения наших законных претензий. Снова над Норильском появился наш бумажный змей с листовками, а на стене со стороны города с полуметровыми буквами лозунг: «Граждане Норильска! Московская комиссия нас обманула. Она творит произвол: расстреливает нас и сажает в режимные тюрьмы. Сообщайте об этом ЦК партии и международным организациям».
Мы вступали в явное противоборство. Однако колеблющихся не было. Люди устали терпеть беззаконие и были полны решимости донести о нем правду до нового руководства страны. Мы верили, что это руководство не без здравого ума и, радея о судьбе отечества, скорее прислушается к нам, чем к Берии, который, как это чувствовалось даже здесь, в лагерях, напористо рвался заменить умершего диктатора. По нашему мнению, перед руководством, оставшимся после Сталина, стояла проблема не проще нашей. Берия был страшен не только нам. И, требуя комиссию ЦК, мы не без оснований считали, что голос наш не потеряется в просторах таймырской тундры. Такая вера ободряла нас. Благодаря ей мы с оптимизмом смотрели в завтрашний день. И хотя мы все понимали, что бериевцы пока еще были хозяевами жизни и ссориться с ними было не менее опасно, чем лезть в запретку, однако впредь никакого страха перед ними не испытывали. Выбор был сделан. И когда в конце работы прибыл конвой, чтобы отвести нас в зону, мы отказались подчиниться ему и не вышли из оцепления, над которым развевался прикрепленный к макушке крана-деррика черный флаг с красной полосой. На все опасности мы махнули рукой. Дескать, будь что будет — авось Бог не выдаст и свинья не съест.
Вечером, узнав о нашем своеволии, в оцепление пожаловала комиссия. Для встречи с ней мы собрались на однажды облюбованной нами площадке — впереди двух недостроенных домов. Но комиссия пройти в глубь территории не решилась. Помня преподанный ей в 5-м отделении урок, она остановилась у проходной вахты и через надзирателя предложила нам подойти к воротам. Однако мы тоже помнили, как она поступила с этапной сотней и товарищами на кирпичном заводе, а потому с ее предложением согласилась только уполномоченная тройка — я, Куржак и Гальчинский.
— Почему люди не идут? — встретил нас вопросом Кузнецов.
— Люди боятся, гражданин полковник, — ответил Гальчинский и пояснил: — Вы обещали не преследовать за забастовку, уверяли, что Лаврентий Павлович прислал вас сюда, чтобы разобраться с нами и восстановить справедливость, а сегодня у нас на глазах вы под видом этапа куда-то увезли наших товарищей, и, как мы считаем, увезли не к теще на блины, а...
— Ничего с вашими товарищами не случилось, — прервал Гальчинского Сироткин. — Все они живы и здоровы и чувствуют себя превосходно.
— Не все, гражданин генерал, — возразил Куржак. — На кирпичном заводе двое убитых...
— Убийца арестован и будет предан суду, — сообщил Вавилов.
— Ой ли? — воскликнул я, кося глаза на Вавилова. — Свежо предание, да верится с трудом. — И тут же, уставясь в глаза Вавилову, заявил: — Словам вашим, гражданин генерал, мы более не верим. И если вы искренни — вам придется предоставить нам возможность увидеться и поговорить и с нашими людьми, и с убийцей. Иначе это похоже на игру в прятки. Мы впредь участвовать в такой игре отказываемся и будем требовать комиссию ЦК.
От этого заявления Вавилова передернуло.
— Вы много на себя берете, говоря «мы», — повысил он голос. — Ваше сумасбродное требование — это не требование всех. В лагере есть и здравые заключенные.
— Зачем, гражданин генерал, гадать? — одернул Вавилова Куржак. — Пройдемте к людям, и поговорите с ними.
— Нет уж, слуга покорный! — запротестовал Михайлов и тут же ткнул рукой в забинтованную голову. — Вот начальству мозги просветили, и оно умней стало, кое-что поняло.
— Не обижайтесь на нас, гражданин полковник, — обратился я к Михайлову. — Случается, и на старуху бывает проруха. Вы нападаете — мы защищаемся. Палка о двух концах. Только сейчас мы не намерены с вами ссориться и со всей ответственностью гарантируем вам полную безопасность.
— И вы уверены, что заключенные не послушаются нас и даже не уйдут из оцепления в лагерь? — поинтересовался Киселев.
— Почти, — ответил я Киселеву, — если вы не подкрепите свои слова делом. А впрочем, пройдите и убедитесь сами. Люди ждут вас.
Но комиссия не пошла. После разговора с нашей тройкой, ей, наверное, стало понятно, что в данный момент заставить нас повиноваться можно было, только применив против нас оружие. Альтернативы не было. Наша активная реакция на предпринятую ею авантюру исключала любые иные меры воздействия, и, сознавая это, комиссия не стала напрасно тратить время и ушла из оцепления, так ничего и не добившись. Однако ей не сиделось. Наше упорство не давало ей покоя. И утром 23 июня она снова прибыла в наше оцепление, и сразу по прибытии Кузнецов заявил нам, что комиссия принимает наше требование предоставить встречу с нашими товарищами, этапированными из 5-го отделения, дабы воочию мы убедились, что они в полном порядке и содержатся в нормальных условиях. И тут же предложил мне, Куржаку и Гальчинскому сесть в машину и вместе с комиссией проехать в лагерь пребывания этих товарищей. В истории Горлага это было впервые. Обычно лагеря держали в полной изоляции один от другого. Даже близким людям, находившимся в соседних лагерях, не предоставляли свидания, а тут разрешили инспекционную поездку. Это несколько обескуражило нас, вынуждая предположить, что комиссия могла решиться на такой шаг, только будучи уверенной, что увиденное нами вернет наше доверие к ней. Но этого не случилось. Встретившиеся с нами товарищи действительно были в полном порядке и содержались в условиях итээловского лагеря на новом лагпункте «Купец», куда их переместили из 5-го отделения. Однако их было здесь не 100 человек, а только 95. Не было Дикарева, Столяра, Заонегина, Василия Лубинца и Александра Шовейко — наиболее активных участников забастовки. На наш вопрос: «Где эти люди?» — Кузнецов ответил, что все они содержатся в изоляторе при 1-м отделении, куда водворены по их личной просьбе. А когда мы попросили разрешить нам увидеться и поговорить с ними, Кузнецов наотрез отказал нам в этой просьбе, мотивируя этот отказ тем, что эти пять человек заимели желание стать хорошими лагерниками и более не хотят нас видеть.
Это была откровенная ложь. Я хорошо знал этих людей. Вместе с ними сидел в изоляторе при 5-м отделении и режимной тюрьме, видел их в деле и потому не мог не улыбнуться, услышав подобное.
— Чему улыбаешься?! — прикрикнул на меня Сироткин.
— Шутка, гражданин генерал.
По возвращении в оцепление я сообщил бастующим об этой шутке. Они встретили мое сообщение громкими криками протеста, требуя прекратить произвол и освободить из изолятора товарищей. Но Кузнецов навстречу этим требованиям не пошел, в связи с чем доверие к возглавляемой им московской комиссии было полностью потеряно. Мы увидели в этой комиссии такое же начальство, как и наше, которое насильничало над нами, унижая и оскорбляя наше человеческое достоинство.
И, вспомнив, как нас били, морили голодом, завязывали в рубашку, волочили по снегу за санями, в очерченном кругу держали на сорокаградусном морозе, при этом потешаясь над беспомощностью обреченных, мы вскипели злобой, и нашлось немало людей, которые, будучи одержимыми этой злобой, стали ярыми сторонниками решительных действий, отказываясь принимать что-либо другое помимо лозунга «Свобода или смерть!». И едва комиссия уехала, как они, эти люди, призвали всех остальных своих товарищей не сидеть сложа руки и не ждать у моря погоды, а готовиться к прорыву зоны — и те мудрствовать не стали, решив, что лучше с честью умереть на улицах Норильска, чем, оставшись в живых, терпеть здесь прежний произвол. Вскоре, следуя этому призыву, за пределы зоны полетели какие-то записки и в механической мастерской начали изготавливать ножи и пики, а прицепы от находившихся в оцеплении тракторов стали обкладывать бетонными блоками. Работали с усердием, торопясь, словно боялись не управиться. Это было какое-то массовое помешательство, вдруг овладевшее заключенными, отчаявшимися обрести свободу, не иначе как смертью смерть поправ. И только у немногих товарищей шевельнулось сомнение в правильности такого выбора. Но этими немногими были люди, к слову которых прислушивались самые бывалые лагерники. И впоследствии это их сомнение явилось той живительной влагой, глотнув которой заключенные приходили в себя, и в течение дня все большее и большее число людей начали задаваться вопросом: «Да так ли уж безвыходно наше положение, что более нам некуда податься, как только под пули краснопогонников?!» Людям хотелось жить. И потому, естественно, однажды появившись, такое сомнение находило благоприятную среду для развития и в конце концов привело большинство заключенных к пониманию, что еще не все потеряно, и эти заключенные более не стали рваться на улицы Норильска. Отныне они не хотели умирать только ради того, чтобы досадить комиссии и Берии. А когда группа сторонников решительных действий во главе с Жиленко и Касьяновым заявила, что она и без них поведет трактора на запретную зону, всполошились, и в оцеплении разгорелся жаркий спор. Взывая к разуму участников этой группы, они пытались воздействовать на них, добиваясь, чтобы и те поняли, на что решаются, и отказались от своего намерения. Но те, будучи эмоциональными натурами, стояли на своем и, обзывая всех, кто не с ними, трусами, грозились погибнуть на глазах этих трусов. Голос разума до участников группы Жиленко—Касьянова не доходил. <...>
 В механической мастерской по-прежнему гудели станки, а в гараже стучали молотки
и скрежетали пилы. Никакими доводами их было не переубедить. <...> И когда в
ходе спора стало очевидно, что эта анархиствующая группа от своего не
отступится, забастовочный комитет более не стал терпеть их своевольства. Он
поручил Васе Корбуту и его товарищам отключить станки, изъять заводные ручки
тракторов и взять под наблюдение запретку, задерживая каждого, кто без ведома
комитета попытается бросать за ее пределы записки или подавать сигналы. К
таким мерам при решении наших внутренних споров комитет прибегнул впервые. В
данной обстановке он не видел альтернативы этим мерам и через полчаса благодаря
усердию Корбута и его команды трактора были разукомплектованы, станки умолкли,
к запретке было не подойти. Группа Жиленко—Касьянова осталась при своих
интересах. Но находившиеся в оцеплении люди желаемого облегчения не
почувствовали, и тревога не исчезла. По-прежнему сохранялась опасность быть
втянутыми в безумное предприятие. Группа Жиленко—Касьянова не отказалась от
своих намерений, и, более того, она пыталась воздействовать на отдельных членов
комиссии с целью склонить их в свою сторону. Весь день 25 июня во всех
сооружениях, где находились люди, шли митинги, на которых обсуждалась щемившая
душу дилемма: идти на прорыв зоны и достойно погибнуть или уйти в лагерь и,
продолжая забастовку, требовать комиссию ЦК. Почти все лагерники были за то,
чтобы уйти в лагерь, и только немногие придерживались лозунга «Свобода или
смерть!». Но эти немногие отказывались подчиняться большинству и, поступая
вопреки его воле, в ночь на 26 июня организовали в прорабском балке совещание,
на котором от забастовочного комитета присутствовали я, Тарас Супрунюк и Федор
Смирнов. Формально они были правы: чем влачить жалкое существование в условиях
необузданного произвола, лучше было достойно умереть. Возражать им было трудно,
тем более что некоторые из них — Жиленко, Леникас, Касьянов — не теряли своего
достоинства в самый разгул произвола и вместе со мной сидели в изоляторе и
режимной тюрьме. Они были моими лучшими друзьями. Но в данный момент я
отказывался понимать моих друзей и, выступая на том совещании, пытался убедить
их, что они вправе распоряжаться своей жизнью, но не жизнью других людей,
которых где-то на свободе ждут матери, дети, жены.
В механической мастерской по-прежнему гудели станки, а в гараже стучали молотки
и скрежетали пилы. Никакими доводами их было не переубедить. <...> И когда в
ходе спора стало очевидно, что эта анархиствующая группа от своего не
отступится, забастовочный комитет более не стал терпеть их своевольства. Он
поручил Васе Корбуту и его товарищам отключить станки, изъять заводные ручки
тракторов и взять под наблюдение запретку, задерживая каждого, кто без ведома
комитета попытается бросать за ее пределы записки или подавать сигналы. К
таким мерам при решении наших внутренних споров комитет прибегнул впервые. В
данной обстановке он не видел альтернативы этим мерам и через полчаса благодаря
усердию Корбута и его команды трактора были разукомплектованы, станки умолкли,
к запретке было не подойти. Группа Жиленко—Касьянова осталась при своих
интересах. Но находившиеся в оцеплении люди желаемого облегчения не
почувствовали, и тревога не исчезла. По-прежнему сохранялась опасность быть
втянутыми в безумное предприятие. Группа Жиленко—Касьянова не отказалась от
своих намерений, и, более того, она пыталась воздействовать на отдельных членов
комиссии с целью склонить их в свою сторону. Весь день 25 июня во всех
сооружениях, где находились люди, шли митинги, на которых обсуждалась щемившая
душу дилемма: идти на прорыв зоны и достойно погибнуть или уйти в лагерь и,
продолжая забастовку, требовать комиссию ЦК. Почти все лагерники были за то,
чтобы уйти в лагерь, и только немногие придерживались лозунга «Свобода или
смерть!». Но эти немногие отказывались подчиняться большинству и, поступая
вопреки его воле, в ночь на 26 июня организовали в прорабском балке совещание,
на котором от забастовочного комитета присутствовали я, Тарас Супрунюк и Федор
Смирнов. Формально они были правы: чем влачить жалкое существование в условиях
необузданного произвола, лучше было достойно умереть. Возражать им было трудно,
тем более что некоторые из них — Жиленко, Леникас, Касьянов — не теряли своего
достоинства в самый разгул произвола и вместе со мной сидели в изоляторе и
режимной тюрьме. Они были моими лучшими друзьями. Но в данный момент я
отказывался понимать моих друзей и, выступая на том совещании, пытался убедить
их, что они вправе распоряжаться своей жизнью, но не жизнью других людей,
которых где-то на свободе ждут матери, дети, жены.
— А ты не учи нас, как нам поступать, — возразил мне Касьянов. — Мы достаточно ученые. Людям нужна свобода! И добыть ее можно только там! — Он махнул рукой в сторону Норильска.
Всю ночь длилось это совещание, но ни они не изменили своего решения, ни мы своего. И когда наконец все аргументы «за» и «против» были исчерпаны и стало очевидно, что мы друг другу напрасно портим нервы, я предложил собрать всех находившихся в оцеплении лагерников и согласиться с тем, какой выбор сделает каждый из них: кто остается здесь умирать, кто уходит в лагерь продолжать забастовку. Это был не лучший выбор из создавшегося положения, но иного никто не предложил. Все согласились с тем, что каждый волен распоряжаться своей судьбой по личному усмотрению. И когда потом мы предложили людям из двух зол выбрать наименьшее, они тотчас тронулись с места и пошли к воротам на выход из оцепления.
На месте остались только самые упрямые приверженцы Жиленко. Некоторые из них хотели силой задержать уходивших, бросились догонять их, но были остановлены группой Корбута и повернули назад. Всего их осталось 70 человек. Они сгрудились на площадке перед недостроенным домом и стояли там до тех пор, пока мы не скрылись из глаз. Все они были нашими товарищами, однако мало у кого из уходивших были к ним добрые чувства. Большинство из нас не верили, что у них хватит духу посмотреть смерти в глаза, и предполагали, что они остались в оцеплении не из высоких побуждений, а из эгоистичного намерения показать себя единственно принципиальными борцами. По мере того как нас подводили к лагерю, это предположение постепенно перерастало в уверенность, и мы все отчетливо начинали понимать, как нам трудно будет объяснить лагерникам, почему мы ушли из оцепления, а они остались там. Их поступок все более осознавался нами вроде той ложки дегтя, которой можно испортить бочку меда. Мала ложка, да вони много. Особенно явственно мы почувствовали эту вонь, когда наконец нас привели к лагерю.
В зоне было пусто и тихо, лишь перед воротами на пути в зону стоял пикет, состоявший из нескольких десятков зэков, возглавляемых Николишиным и Нагуло. Нас не пускали в лагерь. Нам недвусмысленно показывали от ворот поворот. Но поворачивать было некуда, кроме как на поклон к бериевской комиссии, что, несомненно, отпечаталось бы на совести лагерников 4-го отделения черным пятном — намного хуже того, которое они усмотрели в нашем уходе из оцепления. Мы сказали об этом стоявшему впереди пикета Николишину, и тот нас понял. Он тут же, что-то шепнув Нагуло, поспешил в ближайший барак, и вскоре разводная линейка начала заполняться людьми, а к воротам с разрешения начальника караула подошли члены лагерного комитета: Грицяк, Недоростков и Кириченко. И начались переговоры. Они велись нервно, трудно и долго. Наши лагерные товарищи никак не хотели примириться с тем, что мы ушли из оцепления Горстроя. По их мнению, у нас не было сколько-нибудь веской причины, чтобы уходить, тем более оставляя там своих товарищей. А приводимые нами в защиту аргументы принимали за проявление того страха, у которого глаза велики. Они так же, как и Жиленко, считали, что теперь, после смерти Сталина, Берия не применит против нас оружие, что он побоится запятнать себя нашей кровью. И были настолько уверены в этом, что нам было непросто доказать им абсурдность такого их умозаключения. Нам пришлось изрядно попортить нервы себе и им, пока они наконец усомнились в своей правоте и, отказавшись от первоначального решения, велели дежурным надзирателям открыть ворота и ввести нас в зону. Но и тогда не у всех у них достало ума понять, что наш уход из оцепления был вызван далеко не беспричинным страхом. Среди них нашлось немало людей, которые, пребывая во власти собственных эмоций, являлись сторонниками решительных действий. И когда мы входили в зону, эти люди одаривали нас такими уничтожающими взглядами и злыми репликами, будто встречали стукачей, заложивших их товарищей. Этим людям была непонятна логика наших рассуждений. Они, подобно Жиленко и Касьянову, ничего не желали ни слышать, ни знать, кроме лозунга «Свобода или смерть!». Для них наш уход из оцепления выглядел изменой делу, а этого они нам простить не могли. И хотя лагерный комитет и большинство лагерников решили предоставить нас суду времени, они с этим решением считаться не стали и от слов перешли к делу.
Вскоре, после того как мы вошли в зону, меня разыскал Трофимов и сообщил, что только что у русского барака состоялся митинг, в котором участвовало около тысячи человек и на котором по предложению Русинова было принято решение зарезать меня и ксендза Гладысевича. Подтверждалось самое худшее из того, что мы предполагали по дороге сюда.
Лагерники подозрительно косились на нас, а Русинов и местные сторонники решительных действий, как бы приняв от Касьянова эстафету, замахнулись на мою и Гладысевича жизнь. Нас посчитали провокаторами. И хотя это было не так, однако доказывать свою правоту было не время. Нож был уже занесен, и, узнав об этом от Трофимова, я не стал взывать к разуму Русинова и его единомышленников, а поспешил к Кляченко, и тот, проникшись моей тревогой, медлить не стал. Он тотчас послал в бараки и секции домов самых авторитетных лагерников, велев оповестить людей о состоявшемся в лагере митинге и принятом на нем решении и попросить выйти их в зону. И в считанные минуты благодаря активной позиции Донича, Виктора Льва, Корбута и Нагуло несогласные все-таки собрались перед клубом. Их пришло более двух тысяч человек. Все это были люди, которые хорошо знали и меня, и Гладысевича. И хотя не все эти люди оправдывали наш уход из оцепления, однако все они были против того, чтобы расправились с нами, как с подонками. Помня о нашем принципиальном поведении во время самого неограниченного произвола, они не верили, что мы могли под давлением обстоятельств струсить или пойти на сделку с совестью, и, выслушав Кляченко, Наумовича и Корбута и согласившись с их мнением, постановили освободить крайний от вахты дом, разместить меня и Гладысевича на втором этаже и впредь без всякой причины и предварительного шмона не пускать к нам ни одного человека. Наши товарищи как бы прятали нас за свои спины и таким образом не позволяли разрастись конфликту, возникшему в связи с решением, принятым по инициативе Русинова.
Дом, в который нас поселили, был недоступен для Русинова и иже с ним. Они не могли ни войти в него, ни взять приступом. Однако, оказавшись перед таким фактом, Русинов и его товарищи не смутились, полагая, что то, что невозможно сейчас, станет возможно потом, когда время образумит тех, кто взялся нас защищать. А что время обнажит нашу вину, в том они не сомневались. Но, к их огорчению, время обнажило иное.
Вечером, когда тревога за участь 70 человек достигла апогея, когда лагерники, замирая душой, ждали, что вот-вот в оцеплении послышатся выстрелы, и готовились в меру своих возможностей поддержать храбрецов, вдруг этих храбрецов конвой доставил в лагерь. Ни один из них, включая Жиленко и Касьянова, не отчаялся пожертвовать собой. Все 70 были живы и здоровы. У них, как мы и предполагали, не хватило духу самим совершить то, к чему призывали других. Они смелыми были только со всеми нами, а оставшись одни, не сделали и шагу в сторону запретки, будто забыли, для чего оставались. Они не сдержали своего слова и этим самым подорвали свой авторитет. Более им веры не было, а заодно и лагерники перестали верить местным сторонникам решительных действий.
С возвращением из оцепления группы Жиленко—Касьянова люди воочию убедились, чего стоят крикливые фразы этих сторонников, и теперь косились на них куда с большим недоверием, чем недавно косились на нас. Произошло своего рода переосмысление ценностей. Из опальных мы стали уважаемыми людьми. Все как бы вернулось на круги своя.
Поздней ночью меня и Гладысевича посетили члены лагерного комитета: Грицяк, Недоростков, Кириченко, Петрощук, Русинов. Они рассказали нам о положении в лагере и, заявив, что более не считают наши действия провокационными, предложили вернуться к активному участию в забастовке.
— Это мнение лагеря, — пояснил Недоростков. — Во всех бараках пришли к выводу,
что сейчас нет другого пути, кроме как продолжать мирную забастовку, а,
следовательно, ваши действия были правильными. Люди хотят, чтобы вы и дальше
находились в руководстве забастовкой.
Такие речи льстили нашему самолюбию, мы слушали их с удовольствием. Однако от
предложенной чести отказались.
— Слова ваши нравятся нам, — ответил я нашим гостям, — да жаль, что не ко времени сказаны. Чуточку бы раньше. А сейчас, как нам кажется, будет лучше, если мы и наши друзья, поселившиеся вместе с нами в этом доме, останемся нейтральными. Хотя бы ради того, чтобы не повредить установившемуся в лагере согласию и не вызвать кривотолков, особенно у людей Русинова, которые только что забрасывали нас грязью.
— Вы не имеете права самоустраняться! — прервал меня Русинов.
— А мы и не самоустраняемся, — возразил я Русинову. — В трудную минуту мы станем на самом опасном участке. Наш нейтралитет временный, а вот чем он вызван — об этом поговорим потом... на людях, которые сочтут своим долгом рассудить, кто из нас прав.
Ответ мой был категоричным. Продолжать разговор не имело смысла. Убедившись в этом, члены комиссии встали. Перед уходом к нам обернулся Кириченко и зло бросил:
— Вы не правы!
Но и эта реплика Кириченко на нас не подействовала. Мы более не стали излишне испытывать судьбу и, решив, что цыплят по осени считают, впредь не высказывались ни «за» ни «против» даже тогда, когда нас просили высказаться или когда к тому нас вынуждала крайняя необходимость. А такая необходимость возникла уже через несколько часов после ночного визита к нам членов лагерного комитета.
Днем 28 июня в лагерь прибыла московская комиссия. Она вошла в зону и в ожидании представителей заключенных остановилась вблизи вахты. К ней, не заставив себя ждать, подошли Грицяк, Недоростков и Кириченко. Едва подошедшие остановились, как Вавилов предложил им показать свои руки, и, не увидев на них мозолей, отказался признать их представителями работяг и тут же, заявив, что он считает подошедших авантюристами и не желает с ними разговаривать, велел позвать меня, Куржака и Гальчинского. Выполняя его указание, ко мне на второй этаж поднялся новоназначенный начальник 4-го отделения старший лейтенант Власов. Когда он вошел, я сидел у окна и читал роман Джованьоли «Спартак». Подойдя ко мне, Власов взял из моих рук книгу, прочитал оттиснутое на обложке название и, вернув книгу, спросил:
— Это о чем здесь написано?
— О восстании рабов в Древнем Риме.
— И зачем это тебе? У нас социализм — рабов нет. — И тут же нахмурился и отрывисто бросил: — Собирайся! Тебя вызывает генерал Вавилов.
В ответ я пододвинул ближе к себе книгу и уставился в нее, как бы продолжая читать.
— Ты что это?! — возмутился Власов. — Тебя генерал ждет.
Я не спеша оторвал от книги глаза и посмотрел на Власова:
— Передайте генералу, что мне очень хотелось бы поговорить с ним, но, к сожалению, это невозможно. Из предыдущих разговоров с ним стало ясно, что я не понимаю его язык, а он мой. Мы вроде как люди из разных миров — между нами ни малейшего контакта.
— Значит, ты отказываешься идти?
Я утвердительно кивнул.
— С огнем шутишь! — пригрозил мне Власов и, не став более уговаривать меня, поспешил из дома.
Глядя в окно, я видел, как он подошел к Вавилову, что-то сказал ему и тот, быстро посовещавшись с остальными членами комиссии, тут же повел их за собой из зоны. И напрасно толпившиеся перед вахтой зэки кричали, заявляя им о своем желании услышать от них, когда же все-таки будет положен конец произволу, — ответа не последовало. Они ушли, не обратив внимания на крики, и этим недвусмысленно дали понять, что, пока мы не перестанем упорствовать, наши претензии удовлетворять не намерены. Нас явно провоцировали к излишней активности. Но мы на эту провокацию не поддались. Мы считали, что, выказывая пренебрежение к нам, члены комиссии всего лишь бравируют данной им властью, и верили, что, покуражившись над нами, они в конце концов вернутся и выложат все, ради чего приехали к нам в лагерь. Однако расчеты наши не оправдались.
Вскоре после их отъезда у ворот лагеря появился в сопровождении офицеров из лагерной администрации генерал Гоглидзе. Этот генерал уже однажды предпринимал безуспешную попытку навязать нам прежний произвол, но, как видно, преподанный ему урок не пошел впрок, и он не без согласия комиссии прибыл снова с чем-то новым и более замысловатым. С чем? Этот вопрос невольно встал перед каждым из нас, едва мы увидели Гоглидзе, крутой нрав которого знали все зэки Горлага. Однако на этот раз он явился не с дубинкой, а как бы с пальмовой веткой. То, что на этот раз припас для нас Гоглидзе, превосходило любые домыслы наших лучших умов. Такое ни одному зэку спецлагеря не могло и во сне присниться. В закрытый город Норильск он привез матерей и жен, и десяткам наших товарищей были предоставлены свидания, на которых по заранее приготовленному сценарию разыгрывались трагические сцены.
— Сыночек!.. Родной мой!.. — умоляла мать сына. — Послушайся начальства — выйди из лагеря. Ты же ни в чем не повинный, и начальство хочет помочь тебе. Оно, как только ты выйдешь, обещает сразу освободить тебя. Что тебе эти шпионы и бандиты? Они знают, что их не простят, и потому злобствуют. А ты по ошибке здесь. Мне так и сказали, что ты по ошибке... и никакой не враг...
Говоря такие слова, мать не обманывала сына. Ей эти слова сказали большие начальники, которых она отождествляла с властью и верила им так же, как и советской власти, по простоте души полагая, что такие великие люди, избранники самого Сталина, обманывать ее не станут. Но, на ее беду, сын думал иначе. Пережив в тюрьмах и лагерях не одну сотню черных дней, сын знал такое, о чем не мог рассказать ей в присутствии офицера администрации, да и вряд ли она смогла понять его — уж очень теперь они были разными. И потому, остро чувствуя ее горе и ту боль, которую причинял ей, он глотал подступавшие к горлу слезы и судорожно тряс головой.
— Не надо, мама, об этом... Прошу тебя... Ты повторяешь ложь... Здесь почти все, как и я, не бандиты и не шпионы... Все по ошибке... Это мои товарищи... Как же я предам их? Нет, мама! Нет! Я не пойду из лагеря... Я останусь со всеми... Не обижайся, мама... Что всем, то и мне... Нельзя мне иначе...
Такая же или похожая сцена разыгрывалась между мужем и женой и при всех других состоявшихся в тот день свиданиях. И все эти сцены одинаково заканчивались истерическими рыданиями.
В большинстве случаев плакали и те и другие. Но никто из лагерников, которым было предоставлено такое свидание, не изменил товариществу. Вопреки замыслу Гоглидзе все они вытерпели оказанное на них психологическое давление, у всех хватило воли вынести и слезы, и мольбы жен и матерей, хотя им было очень тяжело отказывать родным в их просьбе, а потом видеть их слезы и слышать их упреки. Это была пытка тем более невыносимая, что родные люди, видя в наших палачах полномочных представителей власти и доверяя им, по сути дела, призывали своих мужей и сыновей добровольно отдать себя на расправу этим палачам. Одна мать очень упрекала сына.
— Сынок! — взывала она к нему. — Этих людей прислал сюда Лаврентий Павлович Берия — любимый ученик и верный соратник Сталина. Как же ты, советский человек, можешь выступать против них?
Слышать такие слова от родной матери было больно и обидно. После такого свидания люди возвращались в лагерь, точно с креста снятые. На них жалко было смотреть. Это была своего рода психическая атака на наши души, и хотя все товарищи, ставшие жертвами этой атаки, вроде выдержали ее, однако она не осталась без последствий. Мучительные переживания вернувшихся со свидания трогали души других лагерников, и некоторые, видя, как те убиваются в горе, стали поговаривать, что все это они зря затеяли, что было бы лучше прекратить забастовку и выйти на работу. Такие разговоры, как ржа, разъедали наше единство. В данной обстановке они были более опасными, чем любая провокация со стороны властей, и, понимая это, комитет предпринял дополнительные усилия, с тем чтобы предотвратить дальнейшее распространение упаднических настроений. По инициативе Донича, Наумовича и Смирнова было написано обращение в Президиум Верховного Совета и ЦК, а руководители комитета Грицяк и Недоростков созвали митинг, на котором, обратившись к совести и мужеству заключенных, убеждали их в том, что здесь, в лагере, им терять нечего, а приобрести они могут многое, вплоть до пересмотра дел, и при этом выражали уверенность, что после смерти Сталина наступили иные времена и бериевцы не осмелятся применить против нас оружие, тем более что мы правы и требования наши законные. После Грицяка и Недоросткова выступали многие лагерники. Эти выступления несколько отрезвили упаднически настроенных, и те больше возникать не стали. Наше единство снова, в который раз, было восстановлено. Мы опять все вместе были полны решимости стоять до конца, требуя комиссию ЦК и полного удовлетворения наших требований. Однако дни шли, но комиссия ЦК не приезжала, а находившаяся в Норильске бериевская комиссия подозрительно молчала. Она нигде не появлялась и ничем не обнаруживала себя, будто чего-то выжидала. Постепенно в связи с ее выжиданием в наши души закрадывалась тревога.
Однажды, испытав ее коварство, мы вправе были ожидать от нее любой подлости, а потому не теряли бдительности. День и ночь группы Николишина и Нагуло пристально следили за всем, что происходило по другую сторону запретки, и при всяком замеченном ими подозрительном движении в охранном дивизионе тотчас подавали гудок, и мы вмиг выбегали из бараков, готовые достойно встретить любую ее провокацию. И хотя всякая тревога оказывалась ложной, однако желанного спокойствия в лагере не наступало. Мы постоянно пребывали в напряженном ожидании какой-то уготованной нам опасности. И с каждым следующим гудком это напряжение все нарастало, изматывая и без того до крайности напряженные нервы. Только одни баптисты оставались спокойными. Они верили в грядущий судный день и, собравшись у складского балка, день и ночь стояли на коленях и молились, взывая к Богу и прося Его, чтобы, если можно, Он отвел от нас занесенную над нами карающую десницу. Но ни Бог баптистов, ни мы сами эту десницу не отвели. Она все-таки настигла нас, и первыми ее жертвами стали лагерники 5-го отделения. Наверное, члены комиссии не забыли своего позорного бегства из этого отделения. И когда наконец решились применить к нам крайние меры, начали именно с них.
1 июля, где-то вскоре после раздачи обеденной баланды, все они в сопровождении офицеров норильского УМГБ появились у ворот 5-го отделения, и прямо с ходу Кузнецов потребовал убрать черный, с красной полосой флаг, всем построиться и выйти из зоны. Тотчас по его требованию надзиратели распахнули ворота. Начальник режима и командир конвоя прошли вперед. Солдаты образовали живой коридор. А чтобы заключенные не тешили себя несбыточной иллюзией, Кузнецов обратился к ним с призывом проявить благоразумие и тут же, назвав забастовку вражеской вылазкой, предупредил их, что если они сейчас не подчинятся требованию комиссии, то конвою будет дан приказ применить против них оружие.
— Советская власть своих врагов миловать не станет, — заявил он в заключение.
Но лагерников это заявление не вразумило. Они считали, что теперь, после смерти Сталина, не то время, чтобы комиссия решилась прибегнуть к такой крайней мере, да еще в своем присутствии, и по-прежнему придерживались этой иллюзии — как стояли плотной стеной поодаль от ворот, так и продолжали стоять. На них слова не действовали. Они не верили им, принимали за пустую угрозу и, выслушав, оставались спокойными и ждали, что же будет дальше.
— Одумайтесь! — взывал к ним генерал Вавилов. — Ваши заправилы толкают вас против советской власти. Вы стали на опасный путь. Последствия будут для вас тяжелыми.
— Не слушайтесь авантюристов и провокаторов! — кричал генерал Сироткин. — Ломайте их сопротивление и выходите из лагеря!
Но никто из заключенных не выходил. Прошло время — десять минут, двадцать, полчаса, а они стояли как вкопанные. Ни угрозы, ни призывы не помогали. И тогда Кузнецов приказал вывести их силой, а в случае сопротивления применять оружие без предупреждения. Повинуясь приказу, солдаты поспешно перестроились и вошли в зону. Перестроились и заключенные. Преграждая путь солдатам, они взялись за руки и замерли в ожидании. Они все еще надеялись, что их берут на испуг, и уже было взыграли душой, увидев, что солдаты за несколько шагов до них остановились. Кто-то даже задиристо крикнул солдатам:
— Ну что же вы, сынки?! Идите! Выполняйте приказ!
И в это время по ним полоснула автоматная очередь и сразу же вторая... третья... Десятки убитых упали на землю, застонали раненые, а живые и невредимые от неожиданности оцепенели. Случившееся потрясло их. Для лагерников 5-го отделения эти очереди прозвучали как гром среди ясного неба. С минуту они, ничего не понимая, таращили на солдат глаза, а когда наконец оправились от первоначального потрясения, то почувствовали не страх, а жгучую ненависть к палачам и не бросились бежать от опасности подальше, а, движимые этой ненавистью, встали на место убитых, и снова на пути солдат оказалась плотная стена заключенных, которые так же, как и давеча, молча стояли, взявшись за руки. Было очевидно, что они не намерены сдаваться на милость бериевской комиссии. Над зоной повисла тревожная тишина. Такая же тишина установилась и во всех лагерях Норильска. Вспугнутые выстрелами, зэки выскочили из бараков, и, теряясь в догадках, что бы это значило, обернулись в ту сторону, откуда донеслись до них выстрелы, и напрягли слух. И вдруг снова раздались автоматные очереди. Теперь уже густые, непрерывные, не оставляющие сомнений в их назначении. Самые страшные догадки обернулись явью. И тотчас, почти одновременно с этими повторными выстрелами, прерывисто загудел мощный гудок ТЭЦ, а за ним, леденя душу, также прерывисто заревели гудки всех компрессорных и котельных, которые находились в жилых зонах лагерей, и закричали люди.
Еще недавно, какой-то год назад, о таком возможном единодушии зэков не предполагали ни мы, ни лагерное начальство. Тогда каждый заключенный думал о себе и, заслышав выстрелы, старался, как улитка, уйти в собственную скорлупу и не высовываться, боясь, как бы его не уличили в сочувствии расстреливаемым. Теперь уже никто о себе не думал. Каждый понимал, что все мы здесь подвержены одной участи, что то, что сейчас терпят товарищи в 5-м отделении, потом придется терпеть самому. И каждый, негодуя, кричал, пытаясь хоть криком остановить палачей. Многие в порыве кипевшей в них ярости хватали с земли камни и бросали их в конвоиров, цепью стоявших по ту сторону запретки; некоторые, более терпеливые, донимали этих конвоиров словами, призывая их впредь не подчиняться заведомо преступным приказам, а кое-кто рвался поджечь лагерь — каждый стремился как-то сорвать свое зло и помочь товарищам. Но возможности наши были ограниченными, и, зная об этом, палачи не унимались. Ни гудки, ни крики на них не действовали. Мы кричали, а они продолжали творить свое черное дело. Выстрелы не прекращались. Напротив, они даже, как нам показалось, стали гуще. А вскоре к автоматным очередям прибавились басовистые пулеметные, и в общем крике выделился пронзительный женский визг. Услышав этот визг, мы было опешили, и тотчас гудки и крики умолкли. На какое-то мгновение люди замерли, желая доподлинно убедиться: не ослышались ли они? Но, к сожалению, женский визг и пулеметные очереди были явью. В наступившей тишине они больно поразили наш слух, и все мы вдруг поняли, что это стреляют в женщин, лагерь которых — 6-е отделение Горлага — находился в трехстах шагах от 5-го отделения, по другую сторону кирпичного завода. И тут же люди закричали еще громче, и, участив интервалы, еще тревожнее заревели гудки.
Когда люди услышали гудки и крики, у них мурашки поползли по коже, нервная спазма сжала горло, людям стало не по себе. Но члены бериевской комиссии, видимо, были нелюди. Их наши гудки и крики не трогали. Они продолжали стрелять и, пьянея от запаха растекавшейся по земле горячей крови, еще более свирепели и не остановились, пока не сорвали флаги, развевавшиеся над 5-м и 6-м отделениями, а заключенных этих отделений не поставили на колени.
Около ста человек было убито и почти вдвое больше ранено во время проведения этой усмирительной акции. В стационаре и итээловском бараке, куда относили тяжелораненых, были лужи крови. Однако комиссию эта кровь не удручала. Довольные, они, точно генералы, одержавшие крупную победу, важно прохаживались вдоль строя стоявших на коленях заключенных, и Кузнецов, пытливо вглядываясь в лица, издевательски бросал им:
— Ну что, Аники-воины, успокоились? Это вам впредь наука будет. Себе зарубите на носу и другим накажите. С нами в козыри лучше не играть.
А назавтра, 2 июля, чтобы и нам преподать эту науку, они прибыли в 4-е отделение. Все они были в добром здравии и хорошем настроении. Их не мучила совесть, призраки жертв их не донимали. Они были твердокаменными, как когда-то сказал о них великий вождь. Мы для них были врагами, и отношение к нам было однозначным: «Если враг не сдается — его уничтожают». И они нас на щадили, находя своим действиям оправдание в тезисе своего вождя: «Чем ближе к социализму, тем ожесточеннее враг».
— «Волынка» переросла в контрреволюционный мятеж! — закричал Кузнецов, обращаясь к нам по радио сразу по прибытии в наше отделение. — Мятежники избрали из своей среды суд, прокуратуру, органы управления и тем самым противопоставили себя законной власти. Более терпеть такой вражеский выпад мы не намерены! И если сейчас вы не сдадитесь и не подчинитесь нашим требованиям — будем вынуждены употребить против вас силу, вплоть до применения оружия.
И вскоре, после небольшой паузы, в репродукторе послышался голос начальника лагерного отделения старшего лейтенанта Власова. Власов сообщил, что Красноярское УИТЛиК постановило этапировать из нашего отделения 1350 человек в другой лагерь на пусковую стройку, и в связи с этим он приказал, чтобы те заключенные, фамилии которых будут названы, немедленно собрались с вещами и построились у ворот для отправки их по этапу. И тут же начал выкрикивать фамилии. А когда все назначенные в этап зэки были им названы, ультимативно заявил:
— На сборы и построение вам дается полчаса. Конвой ждет.
И как-то сразу на душе заскребли кошки: они забирали тех товарищей, которые были замечены ими как наиболее активные. И каждый из нас понимал, что их забирали не на пусковую стройку и вовсе не в этап. А потому, хотя все мы и знали, чего нам следует ожидать в том случае, если откажемся выполнить это требование, все-таки двух мнений быть не могло — все соглашались с тем, что лучше сейчас умереть вместе, чем потом, завидуя мертвым, терпеть произвол порознь, и ни один заключенный с вещами к воротам не вышел.
Эмгэбисты недоумевали. У них как-то не укладывалось в голове, что те самые мужики, которые были ими доведены почти до животного состояния, которые еще совсем недавно покорно сносили и обиды, и унижения, вдруг самолично, по собственной инициативе, без какого-либо нажима извне, могли решиться на такой шаг. И едва истекло время, отпущенное нам на сборы, как в репродукторе снова послышался треск, а за ним хриплый, точно простуженный, голос генерала Вавилова.
— Ваше упорство, — говорил генерал, — достойно сожаления. Очень жаль, что вы не отдаете отчета своим поступкам, не хотите понять, что приговор суда и мера наказания — все то, чем вы недовольны и что вас возмущает, может быть пересмотрено, отменено или утверждено только самим судом, его высшей инстанцией, куда вы в любое время вправе обратиться в установленном порядке. Вас этого права никто не лишал. Но ваши заправилы — какая-то жалкая кучка злобствующих проходимцев — ввели вас в заблуждение. Они внушили вам, что, используя это свое законное право, вы ничего не добьетесь. Это — ложь! Вас этой ложью подбили на бунт. — И здесь генерала понесло. Он повысил голос и уже не говорил, а кричал: — Не верьте этим проходимцам! Они толкают вас на новое преступление против советской власти. Они ваши враги!
Тут же громче Вавилова закричал Кузнецов: — Не бойтесь этих лагерных бандитов и провокаторов — Грицяка, Недоросткова, Кляченко, Кириченко, Петрощука, Климовича, Русинова! Они — трусы! Ломайте их сопротивление и выходите в расположение конвоя! Всем, кто выйдет, гарантируется безопасность и пересмотр дела.
Члены комиссии никак не хотели поверить, что в лагере никто не насильничал. Даже мужественное поведение наших товарищей во время вчерашних расстрелов в 5-м и 6-м отделениях ничему их не научило. И спустя минут семь Кузнецов снова обратился к лагерникам с призывом не слушать провокаторов и выходить в расположение конвоя, а когда и на этот раз ни один заключенный из лагеря не вышел, он приказал конвою войти в зону и, решительно пресекая любое сопротивление, помочь желающим выйти из лагеря, осуществить свое желание. Но едва солдаты миновали ворота, как все мы укрылись за кирпичными стенами двухэтажного дома, что находился вблизи вахты, и встретили их градом камней. От неожиданности многие из них, втянув голову в плечи, попятились. Однако вологодские парни тут же опомнились и автоматными очередями охладили наш пыл. Пять человек (в их числе узбек Ашна и мой земляк Володя Забейда) упали на землю, окрасив ее своей кровью, а все остальные — кто теснее прижался к стене, кто бросился к окнам — не вышли из лагеря. И тотчас краснопогонники, видимо решив ужесточить давление на нас, ударили из автоматов по окнам. Еще три человека (среди них матрос Касьянов) упали, обливаясь кровью. И в это время в Норильске снова раздались гудки, а через минуту-другую из дверей вахтового балка вышел член комиссии Михайлов и тут же, окрикнув солдат, приказал им немедленно уйти из зоны. На какое-то время опасность миновала. Михайлов суровым взглядом проводил солдат, а потом поднял на нас глаза и, увидев меня, пригласил подойти поближе.
— Почему люди держат в руках кирпичи и ломы? — спросил он, едва я остановился недалеко от него.
— Кирпичи и ломы — это наши средства самозащиты, — ответил я. — Людей убивают, и они вынуждены защищаться. Почему вы лезете к нам? Что вам нужно?
— Выходите на работу, и никто к вам лезть не станет, — заявил Михайлов.
— Мы работали, а вы над нами издевались, били, унижали наше достоинство.
— Хороших людей не били, — прервал меня Михайлов.
— Не будем спорить, гражданин полковник. Не до того. Лучше вспомни слова, что сказал Христос Иуде в последний вечер: «То, что делаешь, Иуда, делай скорее».
Однако на этот раз комиссия не спешила. Она и без того уже много шуму наделала, а в МГБ шума не любили: там предпочитали делать все скрытно, тихо и так, чтобы концы в воду. И, помня это правило, комиссия, видимо, решила склонить хоть какую-то часть заключенных к выходу из зоны и снова взялась обрабатывать нас.
Обращаясь к нам, члены комиссии то соловьем заливались, то волком рычали, но неизменно в конце каждого обращения звучал призыв сломить сопротивление и выходить в распоряжение конвоя. Только теперь уже перечислялись не семь фамилий, как раньше, а всего две. Почти каждые десять минут в репродукторе звучало:
— Смело выступайте против этих безродных бандитов — Грицяка и Недоросткова!
Или:
— Не слушайтесь этих наглых провокаторов — Грицяка и Недоросткова!
И так, варьируя словами, но не меняя смысла, продолжалось час, второй, третий... Членов комиссии сменяли руководители комбината Зверев и Полтава, а этих — некогда сбежавшие из зоны придурки: начальник колонны Пилипенко и старший нарядчик Мирошниченко. Репродуктор не умолкал. И все это время мы чувствовали себя заложниками, как бы находились под дамокловым мечом, каждую минуту ожидая, что вот-вот ниточка, на которой висит этот меч, оборвется, и случится непоправимое. У каждого из нас нервы были напряжены до предела. И чем дольше продолжалась эта обработка, тем больше нарастало напряжение: нам все более невмоготу становилось видеть над собой висящий меч и ждать, когда же наконец он упадет. Каждый следующий час такого ожидания был для нас мучительной пыткой, терпя которую мы каменели душой и молили Бога, чтобы поскорее наступила развязка, чтобы уж сразу прийти к какому-то одному концу — только бы долго не смотреть смерти в глаза и не ждать, скосит она или пощадит. Все мы были не без страха в душе. Некоторые, не выдерживая, впадали в истерику и плакали, в сердцах проклиная всех, кто находился по другую сторону колючей проволоки. Люди хотели жить. Однако ни один человек не стал искать спасения в расположении конвоя. Они слушали звучащие в репродукторе призывы, но не отзывались на них. И это в конце концов возмутило комиссию.
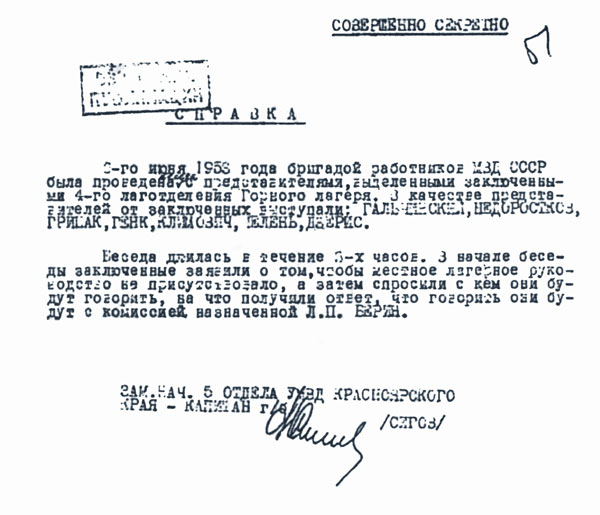
Поздним вечером она в полном составе вошла в лагерь, и Кузнецов, подозвав к себе Грицяка и Недоросткова, потребовал, чтобы те распорядились убрать флаг и построили всех содержавшихся в отделении заключенных, включая стационарных больных, для выхода из зоны. И тут же громко, так, чтобы услышало его как можно большее число лагерников, заявил:
— На сборы вам дается 20 минут! После чего обижайтесь на себя. Конвою будет дан приказ стрелять без предупреждения.
Это был уже ультиматум. Наступила та самая развязка, которую со страхом ждали весь день. Заявление Кузнецова надежды не оставляло. Услышав его, люди как-то сразу обмякли и похмурели, а лагерный комитет незамедлительно собрал в клубе авторитетных лагерников и руководителей национальных групп.
— Що будэмо робить? — поднявшись на сцену, спросил лагерников Грицяк.
И видавшие виды люди понурили головы. Никто из них не мог сказать сколько-нибудь уверенно, что лучше: смерть сейчас или потом в штрафняках и режимных тюрьмах. На поставленный вопрос ответа не последовало.
— Що вы мовчите? — торопил их Грицяк. — Для мавчанки у нас часу нэ мае.
— Часу нэ мае, да тильки и выбору нэ мае, — отозвался Кляченко.
— Из двух зол нужно выбрать наименьшее, — возразил Кляченко студент из Воронежа Леня Быковский.
И тут же на сцену поднялся ксендз Гладысевич.
— Дети мои! — обратился он к присутствующим в клубе лагерникам. — Ни люди, ни вы сами не вправе определять место своей голгофы. На то есть воля Божья, и грех большой самим вопреки этой воле решиться добровольно принять смерть. Я призываю вас не брать на душу этот грех. Как бы ни тяжол был ваш крест, вы все-таки должны сейчас выйти из лагеря и донести его до своей голгофы. Иначе вы совершите самоубийство, и ни один священнослужитель не станет править по вас тризну. Да смилостивится над вами Бог! — С этими словами отец Анджей поднял руку, как бы благословляя нас, и сошел со сцены. К нам снова обратился Грицяк:
— Друзи, колы хто мае що сказать другое, прошу пошвидче.
Никто с другими предложениями не выступил. Все находившиеся в клубе молчали, и, с минуту обождав, Грицяк разочарованно развел руками:
— Ну що ж, получается, що нэма альтэрнативы тому, що сказав отец Анджей. У таким рази идите говорить людям, щоб выходили строиться.
А когда из клуба все вышли и остались только я и Слава Нагуло, Грицяк и Недоростков подошли к нам:
— А вы що не идете?
— Ждем вас, — ответил Нагуло.
— Мы с Володей не пийдэм, — заявил Грицяк. — Нам лучше не идти. Пусть хочь видят, що мы не трусы.
— Вы знаете, как вас бить будут? — спросил Нагуло и, заглянув Грицяку в глаза, пояснил: — Бить будут по-страшному.
— Знаемо. Мы к тьому готовы. За нас не турбуйтесь.
Услышав этот ответ Грицяка, я понял, что они с Недоростковым приготовились принять мученическую смерть, и у меня перехватило дыхание. Я обнял одного, потом второго и тут же, чтобы не расплакаться при них, поспешил из клуба.
Время ультиматума истекало. Со всех бараков к воротам лагеря шли люди. Взяв сумки со своими вещами, вместе со всеми пошел и я.
Выводили нас не общей колонной, занаряженной на тот или иной рабочий объект, как это было раньше, а сотнями. На этот раз никакого объекта не было. Всех нас выводили в неизвестность, и каждый перед лицом неизвестности стремился быть вместе со своими земляками, поэтому сотни состояли в основном из лагерников одной национальности. Каждую сотню сразу при выходе из зоны принимал отдельный конвой и уводил километра за полтора-два от лагеря в тундру и там ставил людей на колени. Я выходил в составе сотни белорусов. Когда нас вели к назначенному для нашей сотни месту в тундре, там уже стояли на коленях два десятка сотен людей, беспорядочно разбросанные по широкому пространству. Вскоре поставили и нас.
Моросил дождь. С Карского моря дул холодный ветер. И по мере того как намокали наши бушлаты, этот ветер все чувствительнее пробирался под них и пронизывал нас до костей. Мы плотнее кутались в бушлаты и до невозможности ежились, но дождь и ветер донимали все больше. А вскочить и согреться движением не позволял конвой. Мы обязаны были стоять на коленях и ждать своего часа. И мы, коченея и дрожа от холода, стояли и ждали всю ночь и утро. Только в 9 часов, когда у многих из нас уже не попадал зуб на зуб, в тундре появились офицеры администрации, и началось движение. Выполняя приказы офицеров, конвой поднимал то одну, то другую сотню и тут же уводил ее в обход длинного невысокого холма, за которым проходила вытоптанная нами дорога из лагеря в оцепление Горстроя. Люди несколько оживились. Появилась надежда, что скоро закончится это испытание холодом. Провожая глазами уводимые сотни, мы, еще остававшиеся здесь, с минуты на минуту ждали своего часа. И казалось, что прошли не минуты, а вечность, пока наконец подняли нашу сотню и также повели за холм, к дороге. Однако, доведя до дороги, нас снова остановили и поставили на колени. И тут-то нам открылся новый круг ада. Вдоль дороги стояли столы, за которыми сидели незнакомые нам офицеры МГБ, а справа, шагах в двадцати, за их спинами, находились те самые стукачи и подонки, которые когда-то по прибытии карагандинского этапа сбежали из лагеря.
Заключенные по одному подходили к столам, говорили свои установочные данные, и офицеры, сверив сказанное с формуляром, отправляли одних прямо по дороге в лагерь, другим велели идти направо, где на них тотчас набрасывались подонки и били с таким остервенением, точно Бог лишил их разума. На наших глазах они избивали Толика Гусева. Под ударами их ног тельце Толика корчилось на земле, то сжимаясь, то вытягиваясь, и было трудно определить, теплилась ли в нем еще жизнь или они били уже мертвое тело. А тех из нас, которых они считали зачинщиками, тут же арестовывали, и приставленный к каждому конвоир уводил налево и, держа на прицеле, ставил на колени спиной к дороге. Ко времени прихода нашей сотни там, налево, уже стояли Гриша Сальников, Игорь Петрощук, Иван Кляченко, Володя Русинов, Миша Куржак, Вася Корбут. Все они были отобраны для следствия: из них намеревались сделать козлов отпущения и их кровью покрыть те злодеяния, которые творили здесь лагерное начальство с бериевской комиссией. Это были обреченные на казнь смертники. Все наши люди сочувствовали им, а проходя мимо, невольно поворачивали в их сторону головы, как бы прощались с ними. Из всех я, наверное, был единственным исключением — я боялся попасть не налево, а направо. Там, направо, среди свирепствовавших подонков были и такие, которые хотели свести со мной собственные счеты и, попади я к ним, не упустили бы свой шанс.
В данной ситуации для меня быть отправленным налево, под охрану персонального конвоира, казалось спасением. Я мечтал об этом как о благе. Попасть налево было моим заветным желанием. С ним, с этим желанием, я и явился к столу, когда пришла моя очередь.
— Фамилия? — рявкнул на меня сидевший за столом капитан.
Я назвал себя и свои данные соответственно формуляру. Выслушав, он смерил меня пытливым взглядом и, увидев перед собой невысокого роста щуплого мальчика, сердито нахмурился. Видимо, мой внешний вид не соответствовал тому представлению, которое он имел обо мне.
— Кто тебя прислал?
— Сам пришел. Мне более некуда деться, — ответил я капитану.
— А ты надеялся улизнуть от нас?
— Не надеялся, а надеюсь, — вызывающе ответил я капитану.
— Ну надейся, надейся, — проговорил он не то примирительно, не то угрожающе. И тут же распорядился увести меня налево.
Солдат вскинул автомат и, проведя шагов тридцать по тундре, посадил меня между Сальниковым и Петрощуком.
— Смотреть прямо на трубу! — приказал солдат, обращая мое внимание на темневшие вдали, некогда сложенные нами две стометровые трубы БМЗ.
А когда я, не повинуясь его приказу, поднял голову, предупредил:
— Не поворачиваться! Не разговаривать! При нарушении применяю оружие без предупреждения!
Солдат, как видно, был из того вологодского конвоя, который шутить не любил. И все же, почувствовав после только что пережитого напряжения некоторое облегчение, я не утерпел, чтобы не поправить его:
— Там две трубы. На какую же смотреть — на ту или на эту?
В ответ солдат нервно передернул автомат и угрожающе буркнул:
— Поговори еще.
С ним и впрямь шутить было опасно. И, благоразумно решив более с этим вологодским конвоиром не связываться, я отвернулся и в угоду ему поднял глаза на трубу... и тут же вздрогнул, теснее прижавшись к земле. Я увидел не трубу, а остановившегося недалеко от меня Бухтуева. Он стоял, широко расставив ноги, и в упор смотрел на меня, ломая губы как бы в приветственной улыбке. Он злорадствовал, а встретясь с моими глазами, заметил появившийся в них испуг и самодовольно осклабился:
— Президент Украины!
— Я — белорус. Украина не моя родина, — пояснил я Бухтуеву.
— Знаем, сволочь! А мы еще жалели... — зло прохрипел он в ответ. И тотчас, энергично подавшись вперед, шагнул ко мне. Но охранявший меня солдат оказался на своем посту.
— Не подходить к нему! — крикнул он Бухтуеву. И Бухтуев, словно пес, услышавший окрик хозяина, остановился.
— Да я ничего, — виновато проговорил он. — Я только шмон хотел сделать.
— Шмон делай, — распорядился солдат. — А его не тронь.
И Бухтуев, порывшись в моих шмотках, вынужден был уйти ни с чем, так и не увидев моего тела у своих ног. Это, видимо, не устраивало подонков. Они не могли смириться с мыслью, что мне просто так удастся выскользнуть из их рук. И вскоре на том месте, где только что стоял Бухтуев, остановился Мирошниченко.
— Дипломат! — сверля меня колючими глазами, процедил он сквозь зубы.
Однако резкий окрик конвоира «Не разговаривать с ним!» вынудил и Мирошниченко уйти ни с чем.
Более подонки не беспокоили меня. Для них я оказался недосягаем, как и все те товарищи, которые так же, как и я, находясь под охраной отдельного конвоира, сидели в тундре налево от дороги. Нам была уготована иная участь. А пока мы как бы являлись немыми свидетелями того самосуда, который руками подонков творила комиссия над заключенными 4-го отделения. Били не только тех людей, которых офицеры посылали направо, но и тех, которых отправляли прямо по дороге в лагерь. Оттуда тоже долетали до нас стоны и крики избиваемых. Они били всех... Били за то, что худой, и говорили: «Избегался», били за то, что полный, и говорили: «Отъелся», били за то, что грязный, и говорили: «Замаскировался», били за то, что чистый, и говорили: «Обнаглел», а иногда били и просто так, без всякой причины. Мы были единственными лагерниками, которых этим подонкам не позволяли бить ни по причине, ни без причины. И таких нас по мере прохождения сотен становилось все больше. Были арестованы и водворены налево Коваленко, Гальчинский, Донич, Тарас Супрунюк, Павел Кушта, Наумович, Нагуло, Николишин, Володя Трофимов, Виктор Лев, Гладысевич, Николай Кириченко, Валентин Чистяков, Ахмед Гуков, Демьяненко, Иван Романюк и другие — всего 24 человека. По мнению МГБ, все мы, зачинщики, собранные налево от дороги, должны были явиться их главным козырем. Они были намерены выбить из нас нужные им показания, на основании которых можно было бы сфабриковать групповое дело об антисоветском заговоре в лагерях, и, организовав потом судилище над нами, обелить таким образом преступные действия и комиссии, и местного УМГБ. И напрасно лагерные подонки рвались, чтобы свести с нами счеты. За спиной каждого из нас стоял конвоир, а вологодские парни службу нести умели. Выполняя приказ офицеров, ни одни из них к своему подконвойному подонков не допустил. А когда прошла последняя сотня и прекратились душераздирающие крики избиваемых, они, следуя далее этому приказу, погрузили нас в подошедший грузовик, усадили каждого последующего между ног предыдущего, спиной к кабине, и, запретив даже переглядываться, доставили в так называемую Пашкину деревню. Деревня эта находилась километра за два от Норильска. В ней были несколько похожих на сараи балков и один длинный барак, который за время нашей забастовки спешно преобразовали в тюрьму и обнесли высоким дощатым забором с двойным проволочным козырьком.
Никто из нас до этого дня ничего не знал ни об этой деревне, ни об этой тюрьме. Впечатление было такое, словно нас привели в какой-то секретный застенок, куда был вход, но откуда не было выхода. О таких застенках мы были достаточно наслышаны от бывалых зэков. И когда нас ввели во двор, поставили на колени и закрыли ворота, все мы почувствовали себя обреченными, и нам не хотелось ни говорить, ни даже думать.
Стоя в ожидании вызова, мы, как загипнотизированные, смотрели на настежь распахнутую входную дверь, не без основания опасаясь увидеть за ней новый круг ада. Многие почти были уверены, что в камерах нас поджидают специально посаженные сюда подонки, с тем чтобы устроить нам здесь второй Цемстрой. И как только появился надзиратель и первый наш товарищ переступил порог этой тюрьмы, все мы, оставшиеся во дворе, напрягли слух. Однако тюрьма молчала. Ушел человек и словно в воду канул. Так же уходил и второй, и третий, и следующий. Все было тихо. Ни один звук не прорывался. И все же тревога не покидала нас до последнего. Когда нас осталось трое — я, Петрощук и Сальников, — Игорь спросил меня:
— Почему людей так долго держат?
— Людей бьют, — ответил я Петрощуку.
— Так никто же не кричит.
— Кому кричать? — Я повернулся к Игорю. — Мы не знаем, кто здесь сидит. А что, если суки? Им кричать?
И Игорь больше возражать не стал. Ему, как и мне, было ясно, что эта тюрьма — не то место, где можно качать права. Вскоре его забрали, и он ушел как в воду канул. Чуть позже забрали и Сальникова. А спустя минут десять, после того как я остался один, в дверях появился мой старый знакомый — старшина Петров. Увидев меня, он прямо-таки засветился от радости.
— О-о-о! Кого к нам привезли! — Он тут же нахмурился и сказал: — Ну-ка иди сюда.
И едва я поравнялся с ним, как он сильным ударом в шею толкнул меня через порог. Я было споткнулся, но упасть мне не дали. Меня подхватил второй надзиратель и ударом в подбородок швырнул третьему, а тот, с размаху отворив мной дверь, вбросил в кабинет начальника и тут же, всем гуртом подкинув меня кверху, ударили об пол и принялись бить ногами в кирзовых сапогах. Один из ударов, видимо, пришелся по почкам, и я на какое-то время потерял сознание. А когда наконец пришел в себя, надо мной стоял начальник. Им оказался тоже мой старый знакомый — Ширяев. Встретившись с ним глазами, я, опершись на локоть, приподнял голову.
— Ну что же ты не бьешь? — крикнул я ему в лицо. — Бей, мусор! Помни: если не убьешь, я потом тебе все это не забуду!
Но Ширяева мои слова не задели. Он криво улыбнулся и, заявив, что на первый раз с меня хватит, приказал надзирателям увести меня в камеру.
Я вроде легко отделался. Однако на душе по-прежнему было неспокойно. Я был уверен, что это всего лишь цветочки, а ягодки мне сейчас покажут, как только войду в камеру. Но когда я вошел, не поверил глазам своим. В камере были все свои: Дикарев, Заонегин, Горошко, Лубинец, Столяр. Все они, едва за мной закрылась дверь, соскочили с нар.
— Что с тобой? Тебя били? Почему ты не кричал?
А услышав, что здесь сейчас избивали 24 человек и никто из них тоже не закричал, принялись нервно ходить по камере, и только Дикарев, видимо заметив, что от пережитого у меня пересохло во рту и мне трудно говорить, подал кружку воды.
— На выпей и ляжь отдохни. Успокойся.
Выпив воды и согревшись в камере, я почувствовал себя страшно усталым и, не снимая бушлата, повалился на нары. Но лежал недолго. Вскоре заскрежетала дверь, и в камеру втолкнули Леникаса и Жиленко. Оба они были доставлены дополнительным этапом и были так избиты, что ни один из них не мог ни лечь, ни сесть. А немного погодя в соседнюю камеру внесли и бросили на цементный пол Недоросткова и Грицяка. У Недоросткова не приливала кровь к конечностям. Пальцы его рук и ног были черными. Он надрывно стонал и просил пить. Но ни однокамерники, ни мы и все остальные ничем ему помочь не могли. Воду здесь давали только один раз в сутки, а передачи из камеры в камеру были категорически запрещены. Нас содержали здесь на строгом карцерном режиме. В УМГБ, видимо, надеялись, что кто-то из нас не выдержит такого режима и попросит смилостивиться над нами. А, следовательно, станет плясать под их дудку. Каждое утро Ширяев обходил камеры и издевательски спрашивал:
— Претензии есть?
Но Ширяеву никто не отвечал. Претензий не было. И всякий раз он, обескураженный нашим молчанием, уходил ни с чем. Мы стоически терпели и голод, и жажду, и боль от побоев и ран. Проходили дни, и вопреки их ожиданиям в камерах царило единодушное согласие. Здоровые выделяли больным больше воды и баланды, и никто не оплакивал свою участь. Каждый был полон решимости вынести все, что выпадет на его долю. И в УМГБ, почувствовав нашу решимость, наконец-то поняли, что они ждут у моря погоды, и перестали ждать. 8 июля следственные органы приступили к фабрикации уголовного дела об антисоветском заговоре в Горлаге. В этот день в кабинетах следственного изолятора были допрошены Михаил Марушко, Герман Степанюк, Павел Фильнев, а назавтра, 9 июля, в эти кабинеты доставили меня, Ивана Кляченко, Владимира Русинова. Следователь, к которому я был доставлен, назвал себя майором Макаровым.
— Как чувствуешь себя? — полюбопытствовал он, едва я опустился на стоявшую в углу табуретку.
— Надо бы хуже, да уже некуда, — ответил я.
— Что это так грустно? — спросил он и кивнул на висевший сбоку от двери репродуктор, из которого бурно лилась какая-то мажорная музыка. — Слышишь, какая музыка! Радость жизни! А ты вот... — Он с минуту вопрошающе сверлил меня глазами, а потом принялся перебирать лежавшие на столе бумаги и, найдя нужную, снова поднял глаза: — Вот такой вопрос к тебе. Вы содержались в 4-м отделении Горлага. Скажите, что происходило в этом отделении в мае-июне 1953 года?
И я запнулся. Ответить «восстание» — это расстрел, «забастовка» — тоже расстрел. Так как же ответить?
— Ну что молчишь? Массовые беспорядки? — подсказал Макаров.
И тут меня осенило.
— Да нет, — возразил я. — Беспорядков не было. Был исключительный порядок. Сто граммов хлеба и те мы делили на троих поровну. И не было ни ссор, ни драк.
— Так что же тогда было?
— Мы требовали комиссию ЦК.
— И не выходили на работу?
— Как это «не выходили»?! Я да и почти все в лагере каждый день выходили на развод. Только нас почему-то не выводили.
— Ты что, издеваешься над нами?
— Ничуть. Я говорю правду — так, как было.
— «Как было», — язвительно повторил Макаров. — Посмотрим. — И, бросив на меня
укоризненный взгляд, снова принялся копаться в бумагах.
В это время музыка внезапно оборвалась и в кабинете стало непривычно тихо, а
через несколько секунд диктор произнес:
— Внимание! Передаем постановление Пленума ЦК КПСС о раскольнической, антипартийной деятельности агента мирового империализма Берии!
Майор Макаров как-то судорожно дернулся, словно от удара, и тотчас, выскочив из-за стола, выключил репродуктор. А у меня перед глазами поплыл какой-то голубой туман и защемило сердце. Почему это не случилось восемь дней назад?! И мгновенно память высветила все пережитое за эти последние восемь дней, и постепенно щемившую сердце боль сменила злоба. Я энергично выпрямился и уставился на Макарова, за спиной которого висел на стене под потолком портрет Берии.
— Так вот, оказывается, гражданин майор, какому богу вы служили?
Макаров исподлобья посмотрел на меня и, увидев сквозившее в моих глазах злорадство, помрачнел.
А немного погодя нажал на сигнальную кнопку, вызвал надзирателя и распорядился увести меня.
— Пока поместите его в бокс, — сказал он надзирателю, видимо рассчитывая, что я
ему еще понадоблюсь, чтобы продолжить допрос.
Однако более я ему не понадобился. В тот день всем в УМГБ было не до допросов.
Постановление пленума переполошило их. Случилось то, чего никто из них не
ожидал. Под ними как бы загорелась земля. Они растерялись. И недавние волки,
которые только что клацали зубами, истязая свои жертвы, в одночасье
перевоплотились в наших благодетелей.
Ко времени, когда нас: меня, Кляченко и Русинова — вернули назад в Пашкину деревню, там уже врачи оказывали помощь избитым и раненым, в камеры дали воду и тепло, близким друзьям предоставили свидания. Карцерный режим содержания был заменен общим, и люди в камерах пободрели и заговорили громко и безбоязненно. Теперь это была совсем не та тюрьма, из которой нас увозили утром на допрос, — та была глухой, молчаливой, похожей на большой гроб, а эта оживленно гудела, и гул этот слышался как музыка мажорная, вроде той, которая лилась из репродуктора в кабинете следователя. Это была музыка вновь ожившей надежды. И ни следственные органы, ни Ширяев, ни надзиратели не предпринимали никаких мер, чтобы прекратить ее, заставить нас соблюдать установленный здесь режим. Всех их словно подменили. Они более не рычали на нас и ничего не требовали. А вечером, когда стало известно, что арестован Гоглидзе, Владимиров, Меркулов, Деканозов, Кабулов, Мешик и другие, а также наши непосредственные палачи, а их вчерашние начальники — генерал Панюков, генерал Семенов и полковник Зверев, у них и вовсе опустились руки, и тюрьма загудела даже после отбоя. Мы видели в этих арестах торжество справедливости и радовались, что такое наконец произошло; радовались непосредственно — так, как радовалась бы содержавшаяся в клетке птица, которая вдруг увидела бездонное синее небо и открытую дверь клетки, через которую она вольна была вылететь и взмыть в это небо. К сожалению, дверь нашей клетки была еще заперта, и естественно, что такая радость долго продолжаться не могла. Она тотчас погасла, когда первоначальные чувства, охватившие нас в связи с неожиданной новостью, немного поостыли и мы неожиданно для себя обнаружили, что арест нескольких высокопоставленных палачей нисколько не облегчал нашей участи. Напротив, он, как нам вдруг показалось, усугублял ее, поскольку в УМГБ по-прежнему оставались на своих должностях все те подручные арестованных, чьими руками осуществлялся здесь произвол, и этот арест мог подтолкнуть таких подручных к скорейшей физической расправе над нами с тем, чтобы избавиться от непосредственных свидетелей их недавних преступлений. И чем больше мы чувствовали такую опасность, тем она становилась все ощутимее, и невольно в душе каждого из нас появлялась тревога. Нам стало очевидно, что, произвольничая в этой тюрьме, о которой никто не знал, что она есть, эмгэбисты, в сущности, ничем не рисковали, и наша смерть здесь могла стать всего лишь еще одной тайной МГБ, покрытой мраком. Мы снова почувствовали себя смертниками. И потом, во все последующие дни, это чувство не оставляло нас; впредь оно довлело над нами постоянно и воспринималось мучительно. Однако мы голову не вешали, а делали все, что могли, чтобы пробиться к душам надзирателей и найти среди них такого, который сообщил бы о нас людям и тем самым рассекретил эту тюрьму. Задача была архитрудная. Для ее решения требовалось время, а оно всецело зависело от наших хозяев. И те нам его не предоставляли.
28 июля, почти сразу после утренней поверки, к нам в камеру вошел Ширяев и объявил, чтобы все мы, кроме Дикарева и Заонегина, собирались с вещами. И тотчас душу каждого обожгла страшная догадка.
Мы судорожно дернулись ему навстречу и, тараща на него глаза, замерли.
— Пойдете по этапу, — пояснил Ширяев.
Но мы ему не поверили. Нам казалось, что МГБ незачем этапировать нас из такой
безвестной ямы, как Пашкина деревня, да еще в такое время, когда забастовка в
Норильске была до конца не подавлена и над 3-м отделением Горлага продолжал
развеваться черный, с красной полосой флаг. Все мы были того мнения, что это
пояснение Ширяева — преднамеренная ложь. Однако правды добиваться не стали — не
та была обстановка.
И вскоре нас, 72 человека, вывели из тюрьмы и, сверив каждого с его формуляром,
построили в колонну и под усиленным конвоем доставили на какой-то
железнодорожный разъезд, а там погрузили в маленький двухосный вагон. Все
свидетельствовало о том, что наша страшная догадка альтернативы не имеет. И едва
вагон застучал по рельсам, как все мы единодушно решили, что вывозят нас в
тундру, подальше от посторонних глаз и ушей. Самочувствие было такое, словно мы
присутствовали на собственных похоронах. Тяжело переживая происходящее, мы не
хотели ни говорить, ни слушать товарища. В вагоне стояла гнетущая тишина.
Каждый думал о своем и вместе с тем чутко прислушивался к перестукиванию колес,
боясь, как бы это перестукивание не стало реже да не остановился поезд. А когда
наконец это случилось, когда стало очевидно, что поезд сбавляет ход, мы
испуганно насторожились, и кое-кто прильнул к стенным щелям. И в это время нам
послышалось какое-то пение. Сначала едва внятно, а потом по ходу движения
поезда все громче и громче зазвучали слова:
Рушив поизд в далеку дорогу,
Всколыхнувся, вагоны помчав.
Ты сумна на перони стояла,
Ветер чубом твоим колыхав
Это была наша песня! Эту песню могли петь только наши, украинские товарищи.
И всех нас точно вихрем сдуло и с нар, и с пола. Мы вскочили и устремились к щелям. И то, что увидели, вмиг наполнило радостью наши сердца. Перед нами в чистой тундре был какой-то лагерь, и в этом лагере сотни людей, стоя на крышах бараков и толпясь у ворот, пели песню. Они провожали на этап своих товарищей, длинная колонна которых двигалась к нашему поезду. Выходит, что Ширяев не обманывал. Нас в самом деле куда-то этапировали. И вагончик наш ожил. Пошли разговоры, послышались шутки и смех. Шутили над всем, что приходило в голову и что видели глаза, даже над тем, по поводу чего впору было бы возмутиться.
Так, увидев, что солдаты отгоняли рвавшихся к нашему вагону зэков, Бомштейн притворно ударял кулаком в стену.
— Вот суки! — воскликнул он. — Раньше при царском режиме жандармы вольным не запрещали подходить к арестантам, которых гнали по этапу, а эти... нашему брату не позволяют. За что кровь проливали под Каховкой и на Перекопе?!
— Вот за это и проливали, — пояснил Павел Фильнев. — Раньше арестант мучился, шел, сгибаясь под тяжестью сидора с хлебом, и заунывно тянул: «Замучен тяжелой неволей», а теперь он поет: «Веселый ветер, веселый ветер». Более сидор с хлебом не сгибает его.
— Эх! — вздохнул Бомштейн. — Мне бы сейчас гитару. Рванул бы я, чтобы мужички услышали да горбушку-другую подкинули. И тогда замостырили бы мы тюрю на помин грешной души Лаврентия Павловича. Колом ему земля!
— Полюбуйтесь на него, — указал на Бомштейна Горошко. — Минуту назад сидел и дышать боялся. А теперь ему гитару...
— Так я, как все, — отшутился Бомштейн, — придерживался общего порядка.
И с легкой руки Бомштейна только что пережитый страх стал источником острых шуток и забавных рассказов. Все вдруг обрели дар речи и настолько увлеклись, что не заметили, как тронулся поезд, а когда наконец услышали перестукивание колес, поезд находился уже далеко от Норильска и в щели было видно только серое небо да побуревшую безмолвную тундру, которая на всем протяжении от Норильска до Дудинки была одна и та же.
 Когда-то, впервые увидев это мрачное однообразие, у нас леденела душа и нам не
хотелось жить, теперь мы притерпелись к нему, и оно более не затрагивало наши
чувства. Настроение по-прежнему оставалось хорошим, и до самой Дудинки вагончик
наш оживленно гудел, точно потревоженный пчелиный улей, и даже на конечной
остановке, в Дудинке, наши остряки все еще продолжали шутить.
Когда-то, впервые увидев это мрачное однообразие, у нас леденела душа и нам не
хотелось жить, теперь мы притерпелись к нему, и оно более не затрагивало наши
чувства. Настроение по-прежнему оставалось хорошим, и до самой Дудинки вагончик
наш оживленно гудел, точно потревоженный пчелиный улей, и даже на конечной
остановке, в Дудинке, наши остряки все еще продолжали шутить.
— Ну что там на воле? — спросил Бомштейн у прильнувшего к щели Стригина. — Еще не видно духового оркестра и встречающих с цветами?
— Видны краснопогонники с автоматами, — ответил Стригин.
— И то честь, — не унимался Бомштейн. — Как-никак приехали первостроители норильского гиганта, покорители Таймыра.
— Не какие-то там челюскинцы, которые шоколад жрали и даже белого медведя поймать не могли.
Однако скоро послышался скрежет отодвигаемых дверей в соседних вагонах, и тотчас шутки и разговоры оборвались. Все мы прикусили язык, и самые любопытные из нас прильнули к щелям. Началась выгрузка этапа. Выгружали все вагоны одновременно. И только наш один оставался запертым и перед ним стояли солдаты с овчарками. Видимо, конвой намеревался везти нас отдельно от всех. Однако заключенные распорядились иначе. Они еще при погрузке обратили внимание на наш вагончик и, задавшись вопросом, почему он так усиленно охраняется, в конце концов пришли к выводу, что в нем везут тех подонков, которые били нас, а увидев такую же охрану и при выгрузке, укрепились в этом мнении и, как только были помещены в трюм баржи, тотчас взломали все перегородки между отсеками и, вооружившись обломками досок, встали у открытых люков. Но когда все было готово для встречи подонков, они неожиданно для себя увидели профессора Павлишина. Он первый из нашего вагончика вошел на баржу. И в ту же секунду из чьей-то груди вырвался крик: «Братцы! Это наши!.. Наших привели!» А через несколько минут все мы, 72 человека, сошли в трюм и полторы тысячи наших товарищей — бывших лагерников 4-го и 5-го отделений — встретили нас восторженно, одаривая и добрым словом, и извлеченными из заначек черными сухарями. Люди делились всем, что имели. В душе у каждого был праздник. Они радовались встрече с нами и тому большому событию, что мы все вместе уходили по этапу — первому, начиная с 1932 года, большому этапу из Норильска на материк.
До этого все этапы шли только в одном направлении — с материка в Норильск. Обратно дороги не было. Все доставленные сюда зэки, а их доставляли по три и больше этапа в год, оставались здесь. Их сотни тысяч лежат в земле Норильска; они лежат в ней всюду, на каждом квадратном метре, и над ними только ветер колышет одинокие деревца таймырской тундры. Мы были первыми, кто уезжал отсюда; мы как бы открывали для заключенных навигацию в обратном направлении, и оттого радость наша была безмерной и баржа басовито гудела, будто пересылка, в которой мужики одержали верх над произвольничавшими в ней ворами.
Арест Берии явился полной неожиданностью и для нас, заключенных, и для наших палачей. Репрессивная акция, которую осуществляла московская комиссия во исполнение приказа Берии, была временной и до получения нового распоряжения была приостановлена. Над 3-м отделением Горлага и 9-м отделением Норильлага продолжали развеваться черные, с красной полосой флаги. Воля заключенных не была сломлена. Восставшие против оголтелого произвола лагерники продолжали требовать восстановления некогда попранной справедливости. Их не испугали бесчинства московской комиссии и произведенные ею массовые расстрелы в 4, 5 и 6-м отделениях Горлага. Забастовка продолжалась. По-прежнему стояли медеплавильные и никелевые заводы, не дымилась ни одна труба металлургического комбината. Обстановка в Норильске оставалась неконтролируемой. И, очевидно, для того, чтобы как-то овладеть этой обстановкой, МГБ решило этапировать из Норильска ту часть бывших заключенных 4-го и 5-го отделений, которые, несмотря на то, что видели смерть в лицо, духом не пали и по-прежнему отказывались повиноваться комиссии и местным властям.
Сопровождать этот этап было поручено члену московской комиссии полковнику Михайлову. Теперь он был добр с нами, вежлив, предупредителен, человечен. Его было не узнать. Он словно искал у нас прощения себе за недавно пролитую кровь наших товарищей. Однако к такой контрастной перемене в нем доверия не было. Каждый из нас по себе знал, чего стоила доброта эмгэбистов. Их доброта была сплошь коварна. Это была доброта хищника к своей жертве. И, сознавая ее такой, мы восприняли подобревшего Михайлова настороженно, будучи уверенными, что эта вдруг происшедшая в нем перемена не более чем какая-то хитрость хищника. И вскоре по отплытии из Дудинки по трюмам баржи пополз слух, что нас не иначе как для того этапируют из Норильска, чтобы затопить в Енисейских порогах, и слух этот никто не пресекал. Всем он нам казался достаточно правдоподобным. Было логично предположить, что у московской комиссии не могло быть иного намерения, как найти возможность избавиться от неугодных свидетелей ею совершенных в Норильске убийств, и что такую возможность, какую предоставляла сама природа, Михайлов вряд ли упустит, тем более что он при этом нисколько не рисковал. Случись затонуть нашей барже, это не явилось бы чем-то исключительным. Такое на Енисейских порогах случалось нередко. Старые лагерники рассказывали, что в 30-х годах на этих порогах почти что в каждую навигацию тонули баржи с заключенными, и никто за это не привлекался к ответственности. Тысячи затопленных списывались, как погибшие вследствие аварии в пути, которая квалифицировалась как несчастный случай, — своего рода божья стихия, с которой чекистам было не совладать. Такая же участь ожидала и нас. Парашники, разнося слух о тайном намерении Михайлова, как бы подавали сигнал SOS. Но, приняв этот сигнал, мы, однако, ничего не могли предпринять для своего спасения. Из закрытого и охраняемого конвоем трюма выхода не было, а у бортов баржи гулко плескались воды Енисея. Слыша этот плеск, мы по мере продвижения вперед все более проникались сознанием фатальной неизбежности и, будучи обреченными на пассивное ожидание, каменели душой. Постепенно говор в трюмах становился все глуше, а при подходе к порогам и вовсе установилась гнетущая тишина. Только шептали молитвы баптисты да порой у слабонервных срывались с языка проклятия нашим палачам. Никто не хотел умирать безвестной смертью в этой барже, точно в большом братском гробу. Уж если суждено было, то хотелось умереть на людях, чтобы хоть помнили о нас, но не в полной безвестности идти ко дну Енисея, не оставив после себя даже могилы. От мысли о такой смерти делалось не по себе, и кое-кто, не выдерживая царившего на барже нервного напряжения, впадал в истерику, а трое, и в их числе член забастовочного комитета 4-го отделения Николай Кириченко, выскочили из трюма на палубу к конвою в расчете на милость полковника Михайлова. Эти трое не совладали с обуявшим их страхом. Они выпрыгнули на палубу, как иные со страху прыгают в огонь, не осознавая того, что творят. У страха глаза велики. И неудивительно, что, будучи загипнотизированными этими глазами, мы не уловили разницы между тридцатыми годами и теперешним временем. А разница была существенной. Не стало великого вождя. И хотя порядки оставались прежние, эмгэбисты все так же были в силе и власти, однако уже не решались самостоятельно произвольничать, руководствуясь законом тайги, а после ареста Берии даже подобрели, словно на них вдруг пролилась божья благодать, и они, прозрев, увидели, что мы тоже люди. Но такое их внезапное преображение до нашего сознания не доходило. Мы столько лет знали их другими, уверенными в своей безнаказанности, что в одночасье не могли отказаться от прежних представлений. Мы мыслили соответственно приобретенному в лагере опыту, а опыт этот свидетельствовал о том, что Михайлову ничего не будет стоить к уже совершенным злодеяниям добавить еще одно, и были убеждены, что он совершит это еще одно злодеяние, которое непременно совершил бы в 30-х годах. Но шел 1953 год, и вопреки такому нашему убеждению Михайлов не решился сделать то, что вроде бы должен был сделать. Он как бы жалел нас. Мы благополучно проплыли Енисейские пороги. Однако, оправившись от страха, мы не пришли в восторг от доброты Михайлова. Эта его доброта нас не воодушевила. Очень уж свежа была память о том, как совсем недавно этот Михайлов расправился с нами в Норильске. Согласно собранным в барже данным, сто семьдесят два человека убиты. Такое не забывается. И то, что он не затопил на порогах баржу, не убеждало нас в том, что теперь его доброта была иного свойства. Сверяясь со своей памятью, мы пришли к заключению, что он потому не затопил баржу с нами, что имел приказ доставить руководителей восстания для продолжения следствия, а всех остальных куда-то на строгорежимный штрафняк — своего рода гулаговский Освенцим. Нам казалось само собой разумеющимся, что эмгэбисты не оставят без последствия наше выступление против творимого ими произвола. Такую крамолу они никому не прощали. А от того и мысли наши были о самом худшем, что только могло ожидать нас впереди. Ни в какие добрые перемены мы не верили. Будучи запертыми в барже, мы не знали, как повлияет арест Берии на поведение эмгэбистов. Нам же этот арест казался всего лишь той одной ласточкой, которая, как известно, весны не делает. Нас пугали наследники великого вождя, которые теперь находились у власти и которые, по нашему мнению, были нисколько не лучше Берии. Из рассказов старых лагерников нам было известно, что и Каганович, и Маленков были причастны к творимому в лагерях произволу. Заявившись в 1938 году с инспекционной проверкой в Дальлаг, Каганович распорядился расстреливать всех недовольных режимом содержания.
— Советская власть, осуществляя диктатуру пролетариата, не должна быть гуманной к своим врагам, — поучал он чекистов.
Такое же распоряжение отдал и Молотов во время своего посещения Волголага. Таким же беспощадным был и Маленков, инспектируя лагеря в Сухобезводном. Это была их принципиальная позиция: «Кто не с нами, тот должен пасть». И наивно было рассчитывать, что теперь они вдруг ни с того ни с сего поступятся таким своим принципом и вопреки ему проявят милость к жертвам диктатуры. Для них этот принцип был все равно, что для воров их закон. Нарушившего закон воры объявляли сукой, они — контриком, врагом народа; после чего и тот и другой нарушитель были обречены. Их уже на воровском толковище или пленуме ЦК слушать не станут. Впредь им защиты искать не у кого, разве что у товарища Макуниса (секретарь компартии Израиля), как это обидно шутил инженер Бомштейн, отмечая наше безвыходное положение. Мы морщились от такой шутки Бомштейна, однако, ободряемые мечтой о свободе, духом не падали. Наши оптимисты были убеждены, что если нам удавалось вправлять мозги ворам и принуждать их мирно сосуществовать с суками и нами, мужиками, то сумеем и просветлить разум наследникам великого хлебореза. И люди верили оптимистам, хотя и знали, что в противоборстве с этими наследниками горя доведется хлебнуть сверх возможного. Они произвольничали наглее воров, а иногда, как, например, в Норильске, и вовсе вели себя как беспредельщина. Качать с ними права требовалось немалое мужество и главное — единство каждого со всеми и всех с каждым, того нерушимого единства, которого, к сожалению, как это обнаружилось в ходе норильского восстания, мы не имели. Нас объединяло только общее горе да фанатичное стремление добиться восстановления справедливости и обрести свободу, но в остальном мы были людьми разными и даже в этом своем стремлении к желанной свободе вели себя по-разному.
Особенно шагали не в ногу те из нас, которым жизнь в лагере была более в тягость, чем другим, и они, бросив клич «Свобода или смерть!», призывали к самым решительным действиям. Кровь товарищей, пролитая московской комиссией в отделениях Горлага, их не отрезвила. Они и теперь здесь, в барже, утверждали, что свободы без жертв не добиться, а кто ради нее боится умереть, тот трус, тому свободы не видать. Они по-прежнему правыми считали только себя. И когда баржа миновала пороги, вновь подняли этот вопрос: «Кто прав?»
Так же, как и в Норильске во время восстания, зло спорили, упорствуя в своей правоте. Переубедить их было невозможно. И когда это стало очевидным, профессор Михаил Дмитриевич Антонович (Антонович Михаил Дмитриевич — профессор, зав. кафедрой восточной истории Пражского университета, потомок киевских генерал-губернаторов, видный деятель ОУН (Организация украинских националистов)) вызвался стать нашим арбитром. Такая инициатива всем пришлась по душе. Антоновичу верили. Его знали как человека рассудительного и исключительно мужественного. В лагерях он прошел все круги бериевского ада. Горя хватил через край. Но ни пытки, ни карцеры, ни изоляторы воли его не сломили. Он оказался сильнее своих истязателей и вел себя по отношению к ним не менее решительно, чем те лагерники, которые кричали: «Свобода или смерть!» Такое его поведение импонировало нашим оппонентам, и они первыми заявили о своей готовности согласиться со всем, что он скажет. Они, видимо, рассчитывали на его поддержку или в крайнем случае на его положительный отзыв о них. Но Антонович рассудил иначе. Выслушав обе спорящие стороны, он заключил, что, поскольку жизнь каждого человека неповторима, людям нужна свобода, но не смерть и прав тот, кто допустил меньше жертв. Согласно договоренности никто Антоновичу возражать не стал. И мы, и они выслушали это заключение как приговор, который обжалованию не подлежит. Конфликт был исчерпан. Единство восстановлено. Я разыскал Русинова и спросил:
— Владимир Сергеевич, так за что же ты меня хотел жизни лишить?
Русинов нахмурился и потупил глаза.
— Не надо более об этом, — сказал он, подумав. — Впереди нас ждут испытания потруднее, и нам лучше держаться вместе. Так оно вернее будет.
Я согласился с таким мнением и, оставив старую обиду, протянул ему руку. Мы помирились и в тот же день, пойдя навстречу моему пожеланию, а также пожеланию моих близких друзей — Семена Бомштейна и Павла Фильнева, — он перебрался в наш отсек трюма и как четвертый член нашего маленького товарищества стал с нами есть из одного котелка. Имевшее место разногласие между нами было забыто; мы как бы негласно условились с ним: кто старое помянет, тому глаз вон. В нашем положении нам было не до старых обид. Теперь, благополучно миновав пороги, все мы предполагали, что нас везут на какой-то страшный штрафняк, вроде Цемстроя, и это предположение вынуждало каждого искать душевного согласия с товарищами по несчастью. Такого согласия хотели все. И то, что Русинов, один из лидеров наших недавних оппонентов, сел с нами есть из одного котелка, было воспринято как торжество здравого смысла. Мы верили, что при всеобщем согласии нам будет нестрашен никакой штрафняк. И, увидев в поступке Русинова и нашем шаге к нему навстречу такое согласие, настроение у этапников приподнялось. Они подобрели. Послышались шутки, смех, даже песни. Баржа загудела, как пчелиный улей перед вылетом из него нового роя, и такое настроение уже более не покидало нас во все оставшееся время пути и потом, когда наконец баржа остановилась у какого-то причала Красноярска и нам было приказано выгружаться. Полные здравого оптимизма, мы шумно выходили из трюма, не обращая внимания ни на грубые окрики многочисленных конвоиров, ни на злобное рычание овчарок, словно все это было для нас трын-трава. Первое, что по выходе мне бросилось в глаза, — это толстое высокое дерево. Стоял погожий день. Яркое солнце заливало окрестности. Дул несильный ветерок, и дерево это как-то особенно гулко шумело. Семь лет я не видел такого высокого дерева, столько же не слышал, как оно шумит. Семь лет как бы пребывал в преисподней. Вот теперь я выбрался — и передо мной настоящее дерево. Оно шумело и было живое. И я потянулся к нему душой. Сойдя по трапу на берег, я подошел к этому дереву и, обхватив руками его шершавый ствол, прижался к нему всем телом. Мне вспомнился отчий дом и перед ним толстая высокая береза. Иногда, перед тем как войти в дом, я, бывало, вот так же прижимался к той березе и слушал, как она шумит, пока меня не окликала мать. Я помнил тот шум и, прильнув к этому одинокому дереву на берегу Енисея, был рад его услышать вновь. Он звучал для меня как музыка моего короткого детства. Но, к сожалению, звучал недолго. На этот раз меня окликнула не мать, а начальник вологодского конвоя.
— Ты чего там прячешься за деревом?! — зло спросил он меня. — Стань в строй!
Видения детства моментально исчезли. Повинуясь этому окрику, я оттолкнулся от дерева и присоединился к своим товарищам. Они были тут же, рядом с деревом, стояли по пяти в ряду, в колонне, которая по мере выгрузки баржи все более вытягивалась, удаляясь от берега, где почти у самой воды толпились небольшой кучкой наши новые хозяева, изучающе вглядываясь в каждого сходившего с трапа зэка.
<...>
В крепости был освобожден для нас самый большой корпус, а в нем — чистые камеры и на нарах белые, хорошо выстиранные постели. В камеру поместили по наличию мест в ней и тут же дали книги и показали ларек, в котором за наличные деньги можно было купить хлеб, сахар, рыбу, махорку. В обращении с нами были суровы. Но не грубили и вопреки инструкции не препятствовали никакому общению между камерами. Все это было для нас приятной неожиданностью. Никогда раньше с нами так не обращались. Такое отношение к себе мы встретили впервые. Оно разительно не соответствовало обычному поведению эмгэбистов. Но если еще вчера в изменившемся поведении Михайлова мы усматривали коварный умысел, то теперь об этом речи не заводили. Более никто из нас не задавался вопросом: «Что бы это значило?» Все мы как бы внезапно прозрели, и наконец-то до нас дошло, что эмгэбисты изменили свое отношение к нам не из какого-то скрытого умысла, а от растерянности, охватившей их в связи с арестом Берии. Они боялись, как бы не дать нам повода для нового возмущения и наш крик протеста не дошел бы до чьих-то чужих ушей, и потому заигрывали с нами, шли на уступки, а в это время делали все, что могли, в пределах своей власти, чтобы побыстрее и без лишнего шума этапировать нас туда, «откуда возврата больше нету».
Действуя таким образом, они уже назавтра, к нашему прибытию в Красноярск, вызвали 72 зэка из Пашкиной деревни, которые числились у них руководителями восстания, и как будто для продолжения следствия переэтапировали этих руководителей во внутреннюю тюрьму. Там нас посетил областной прокурор, милостиво выслушал наши претензии, пообещал во всем разобраться. Однако следствие продолжать не стали. За две недели, что мы пробыли во внутренней тюрьме, они со многими из нас не посчитали нужным даже познакомиться. У них были совсем другие намерения, и мы это поняли, когда нас потом вернули в крепость. Корпус наш был почти пустой. 1200 человек были взяты на этап. Их повезли на Колыму. И все обошлось тихо, без шума, как и было задумано; для чего, как это нам стало очевидно, они и увозили нас отсюда, опасаясь, чтобы мы не организовали шумного сопротивления при отправке по этапу наших товарищей. А когда такая опасность миновала, нас опять вернули и присоединили к оставленным в крепости наиболее активным, по их мнению, участникам восстания, поместив всех вместе на втором этаже. Было похоже, что теперь в их глазах мы, оставшиеся, выглядели одного поля ягодой и всем нам предстояло идти по одному общему этапу. Такое предположение представлялось нам единственно логичным. Иначе, рассуждали мы, им было бы незачем собирать нас вместе на одном этаже, будто в одном вокзале пересыльной тюрьмы, и незачем препятствовать нашему между собой общению. Обычно формируя разные этапы, они подобным образом не поступали. Это было не в их правилах, о чем мы хорошо знали, и потому никто из нас не сомневался в справедливости таких рассуждений. К тому же все мы были одного мнения, что, стремясь погасить высеченную нами в Норильске искру, им намного удобнее отправить нас одним этапом на какой-то воровской штрафняк, вроде Цемстроя, чем развозить по разным лагерям, где из искры может разгореться пламя. Мы готовились к новым тяжелым испытаниям, которые воспринимались нами как фатальная неизбежность.
К заключенным, которые искали правду и активно добивались пересмотра дел, эмгэбисты неизменно применяли самые крайние меры воздействия. Так что рассчитывать нам было не на что. Мы были вроде заложников своей судьбы и, как таковые, покорно ждали, когда вызовут на этап. Но когда наконец стали вызывать, мы были приятно удивлены. Наши опасения оказались напрасными. Чекисты поступили с нами так, как нам и в голову не приходило. Видимо, что-то в них надломилось, что-то стряслось такое, от чего они перестали быть похожими на самих себя. Они этапировали нас не всех вместе, как это, по нашему предположению, должны были сделать, а вопреки должному малыми партиями, по 8-12 человек, и не в какой-то воровской штрафняк, а в закрытые тюрьмы разных городов: Саратов, Ярославль, Воронеж, Новочеркасск, Харьков, ленинградские Кресты, а 190 человек — во Владимирский политизолятор. Но и этих 190 отправляли не одним этапом, а тоже партиями по 8-12 человек и не прямым назначением, а через пересылки с остановками в Новосибирске, Омске, Свердловске, Кирове. Они поступали так, как будто, пребывая в шоковом состоянии, вызванном арестом Берии, не знали, что творили, а потому, не желая того, способствовали наибольшему распространению вируса мятежа.
Около месяца шли поезда, в составе которых был зак. вагон с активными участниками восстания, и на каждой остановке случавшиеся там на то время люди слышали их страстные выступления, а на пересылках, подвигнутые этими выступлениями, зэки делились с ними своей этапной горбушкой.
Свердловская пересылка была воровской. В тот день, когда на эту пересылку прибыл наш этап — я, Бомштейн, Щур, Нагуло, Петрощук, Иван Стригин, Ротефан Елоян, Василь Николишин, — воры вели какое-то бурное толковище. Все они до срыва голоса кричали, но, кажется, никто никого не слышал и один не понимал другого. Каждый стоял на своем. И когда после вечерней поверки кто-то из них возмущенно воскликнул в ответ: «Воры, слышали?!» — наш сосед по камере прохрипел в ответ: «Слышать слышали, да только понять мудрено». Понять что-нибудь было действительно мудрено, а, следовательно, не могло быть ни конца ни края этому толковищу. И тогда мы решили вмешаться, с тем чтобы обратить на себя внимание и заручиться их поддержкой на данной пересылке. Я подошел к окну.
— Воры пересылки! — обратился я к ним. — Я мужик. Зовут меня Гришка. Прошу вашего внимания. Выслушайте!
И хотя никто из них не внял моей просьбе и толковище продолжалось, однако это обстоятельство меня не смутило. Я не придал значения их безразличию и как ни в чем не бывало принялся, стараясь перекричать их, объяснять, кто мы и за что чалимся. И по мере того как я излагал суть нашей борьбы с произволом, крики прекращались, становилось все тише, а когда речь коснулась участия воров в этой борьбе, послышался властный окрик.
— Стой! Погоди! — И тут же окликнувший меня воззвал к своим товарищам: — Воры пересылки! Сейчас будет говорить мужик. Зовут его Гришка. Послушайте его!
Пересылка затихла. В наступившей тишине прозвучало обращение ко мне:
— Давай сначала!
Было очевидно, что ворам мое объяснение пришлось по душе. Это воодушевляло. И, начав сначала, я со всей старательностью, на какую был способен, говорил о творившемся в Норильске произволе, о воровских штрафняках — Цемстрое и Каларгоне, о смерти в Горлаге Слепого и Маньчжурца, о поднятом нами восстании, о расстреле московской комиссией наших товарищей и о той безрадостной перспективе, которая ожидает нас, оставшихся в живых. Заканчивая говорить, я спросил у них:
— Имеют ли право эти мужики получать на воровской пересылке хлеб, махорку, уважение к себе?
И в ответ послышалось:
— Честь вам и слава! — И тот же голос добавил: — Четвертый, третий, второй этаж, опустить все вниз.
А через несколько минут надзиратель открыл кормушку и просунул передачу.
— Не понимаю, что вы могли найти с ними общего? — осуждающе заметил он Стригину, принимавшему эту передачу.
— С ними у нас не так, как с вами, — судьба общая, — ответил надзирателю Стригин и пояснил: — Потому-то они для нас — свои, а вот вы — чужие.
Надзиратель, пытливо заглянув Стригину в глаза, захлопнул кормушку.
— Не понравилось, — резюмировал Стригин. И тут же, подойдя к столу, развернул
передачу. Там были сухари, хлеб, сахар, горбуша и пачка махорки.
Увидев такое богатство, все мы в момент оживились и соскочили с нар. На
радостях Щур встал на руки и обошел вокруг стола, а Бомштейн в шутку заметил:
— Спасибо власти, что вырастила самых передовых в мире воров. Не то что насквозь прогнившие капиталисты. У них там вор есть вор, а у нас — люди.
— Все более закономерно, — поддержал шутку Бомштейна Нагуло. — Чай, наши воры — воспитанники Макаренко, самого великого в мире педагога.
И только два человека — старожилы, которые сидели в этой камере до нашего прихода, не приняли участия в общем оживлении. Эти двое продолжали сидеть на нарах и оставались равнодушными к нашему оживлению. Они, наверное, так же как и надзиратель, не могли понять, что у нас нашлось общего с ворами, и удивлялись, что, идя навстречу новым страданиям, мы продолжали любить жизнь и могли радоваться передаче воров, словно дети богатому гостинцу. Эти двое были только что со свободы. Это был их первый этап, и наша жизнерадостность, видимо, показалась им не иначе как шабаш во время чумы. Однако вскоре и они, махнув на все рукой, присоединились к этому шабашу и впредь, пока находились вместе с нами, не впадали в уныние. Мы как бы помогли им обрести ранее потерянное самообладание.
Пройдет время, и нас выпустят на свободу. Я приеду в Гомель, получу квартиру.
...И вот однажды в мою квартиру вошел чужой, совсем незнакомый человек.
— Я — Миланович, учитель английского языка из Радошкович. Когда-то, на свердловской пересылке, я сидел с вами в одной камере, — представился он. И тут же, предваряя мои вопросы, продолжил: — Вы, конечно, не помните меня. Там, на пересылке, я не осмелился напрашиваться к вам в друзья, боялся, что покажусь ничтожным. Очень я тогда переживал. Арест, следствие, тюрьма — все это не укладывалось в голове, представлялось каким-то страшным абсурдом. А когда меня осудили и дали 10 лет лишения свободы, я и вовсе пал духом, посчитал, что жизнь окончена, и, не видя для себя выхода, собрался было повеситься. Но в это время в камеру привели вас, восемь человек, — людей, которые терпели такое же горе, но не ломались в этом горе и не теряли бодрости духа. Увидев вас такими, я возненавидел себя за малодушие. Своим оптимизмом, уверенностью в завтрашнем дне и смелостью, с какой вы противоборствовали тюремщикам, вы как бы зажгли для меня свет в конце темного тоннеля. Более жизнь не казалась мне конченой. Я снова почувствовал себя человеком и был благодарен тюремной фортуне, что она устроила встречу с вами. А чтобы эта встреча не оказалась мимолетной и мне не потерять вас навсегда, я однажды ночью, когда в камере все спали, вытащил у вас из-под головы ваш мешок и взял из него вот это... — Он протянул мне пожелтевший от времени лоскуток бумажки, на которой мной собственноручно был написан адрес моей сестры. — Я прятал эту бумагу в вате бушлата и таким образом пронес через все шмоны в надежде, что когда-нибудь по указанному адресу разыщу вас и узнаю, как живут такие люди, как вы. И вот я перед вами.
Скажите, где теперь те ваши товарищи? Как у всех вас сложилась жизнь на свободе? Когда-то я восхищался вами. Особенно мне запомнился тот маленький шустрый, со шрамом на правой щеке, что ходил на руках, и инженер, который в тон официальной пропаганде называл воров пересылки самыми передовыми в мире ворами.
Когда я слушал Милановича, мне было и приятно, и вместе с тем досадно, что в свое время мы не всегда уделяли должное внимание таким людям, как он, которые остро нуждались в моральной поддержке. И, извиняясь за некогда упущенное, я усадил его за стол, и «полилась беседа слезами теплыми на пыльные цветы»...
Однако такая беседа состоится потом, через годы. До нее еще нужно будет дожить, а в нашем положении дожить было непросто. Все мы выглядели доходягами — истощенные, измученные. Нам были необходимы отдых и усиленное питание. Но везли нас отнюдь не в санаторий.
Заря свободы еще только занималась. Еще не все мы видели ее восход. И потому, когда уходили на этап из свердловской пересылки, Вася Николишин пропел:
Цыганка с картами — дорога дальняя;
Дорога дальняя — казенный дом.
И снова старая тюрьма центральная
Меня, несчастного, к себе возьмет
И песня эта оказалась пророческой. Нас взяла к себе старая Владимирская тюрьма. И пройдет еще три долгих года, пока наконец комиссия Президиума Верховного Совета зачитает мне: «Из-за отсутствия состава преступления освободить со снятием судимости». И горькая обида сдавит горло, на глазах выступят слезы и захочется что-то сказать в ответ, да не найдется слов...
<...>
— Как же долго вы разбирались с моим делом, — наконец выдавил я из себя и тут же вышел, не желая более ни видеть, ни слышать благодетелей из комиссии Президиума Верховного Совета. Мне было не за что благодарить этих благодетелей. Очень уж больно бередило душу пережитое горе. За что меня судили? Вот вопрос, на который я не находил ответа тогда и не нахожу сегодня, и, мучаясь им, не устаю повторять предсмертные слова Юлиуса Фучика: «Люди, будьте бдительны!»
Из книги Р.Климовича
«Конец Горлага»,
Минск, «Наша нива», 1999 г.

Во время встречи в Москве на II Международной конференции
"Сопротивление в ГУЛАГе". 1993 г.Крайний слева - Григорий Климович
На оглавление "О времени, о Норильске, о себе..."